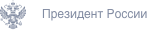Кто вы, Абель—Фишер?
Совместный проект радио "Эхо Москвы" и "Российской газеты". Программа подготовлена к 90–летию Службы внешней разведки Российской Федерации. О Фишере–Абеле рассказывает писатель и журналист Николай Долгополов.
Ведущая: Майя ПЕШКОВА
ЧАСТЬ I 05.12.2010
М. ПЕШКОВА: Накануне выхода молодогвардейской книги об Абеле, встретилась с Николаем Долгополовым, автором многих книг о разведчиках. Полтора десятилетия назад, после работы спец–корреспондентом "Комсомолки" за рубежом, ища себя в новой российской действительности, Николай Михайлович, по совету коллег, обратился в пресс–службу внешней разведки. Юрий Кобаладзе, руководивший тогда пресс–службой, предоставил в его распоряжение множество бумаг, речей, статей Абеля. Не этот путь прельстил журналиста, он хотел поговорить с теми, кто лично знал Абеля. Список его кандидатур утвердили. С кем же хотел поговорить писатель Николай Долгополов?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: В него попали Эвелина Вильямовна Фишер. Настоящая фамилия разведчика Абеля — Фишер. Это его начальник, уже московский, последний, я бы сказал, начальник, Дмитрий Петрович Тарасов, полковник Тарасов.
Это еще один человек, фамилию которого я знаю, но назвать до сих пор не могу, это его ученик, который, как я думаю и предполагаю, продолжал его дело, ну, по–моему, не в Штатах, а в другой стране. Это легенда советской российской разведки, Владимир Борисович Барковский, атомный разведчик, который через несколько лет получил звание Героя России. И я попросил, чтобы мне дали какого–то иностранца, какого–то, потому что я не знал, вообще, с кем он работал из иностранцев, что он с ними делал, мне было это непонятно. Вы знаете, даже это не разрешили. И я встретился с человеком по фамилии Морис Коэн, он тоже вскоре стал Героем России. Он — настоящий атомный разведчик. Я ему сказал так, что вот именно Морис и его жена Лона, — покойная к тому уже времени, — и добыли, практически своими руками, чертежи атомной бомбы. Так началось блуждание, плутание по вот этим атомным закоулкам, начались встречи с этими людьми. И вы знаете, я скажу, что, может быть, я нашел себя в этом качестве, потому что мне страшно повезло: ну, не было из этих людей, с которыми я встречался, ни одного подлого, ни одного скушного, ни одного неинтересного. Были люди очень настороженные. Такие были, потому что они не знали, о чем можно говорить, а о чем нет.
Я был чужой человек для них, я был человек совершенно не из их среды. Но, тем не менее, некоторым — я видел это, скажу нескромно — было со мной интересно. Например, тому же Коэну. Морис жил здесь десятилетиями, а по–русски говорил очень плохо. И причем, говорил он как: он мог говорить только на "ты", а уже на "вы" — это было сложно для него. И мы с ним говорили по–английски. Он был, я бы сказал так, со мной даже неожиданно откровенен. Меня сопровождали люди всегда из того управления, в котором служил Абель Фишер, садились со мной. Иногда их было двое, иногда был один человек. Однажды было трое людей, это были, как я думаю, старшие офицеры. Они прислушивались к нашим беседам, их эти беседы тоже захватывали. Даже для людей, много прошедших, это было очень интересно. Так, потихонечку, начал проявляться вот этот облик русского, российского, советского — называйте, как хотите — великолепного разведчика–нелегала.
Конечно же, вот так сразу взять и все написать, было невозможно. Я шел вот к этой книге под названием "Жизнь замечательных людей. Абель — Фишер" с 93–го года, в конце ноября вот она вышла. Потихонечку я добавлял, по главке, по штришку и в книгу, и к своему пониманию об Абеле. Ну, биография фантастическая. Вы знаете, что меня еще больше всего потрясло? То, что родители Абеля практически занимались тем же, чем и он, но несколько с другой стороны.
М. ПЕШКОВА: То есть, это что получается, династия разведчиков?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Нет. Это не династия разведчиков, но это династия людей–конспираторов. Потому что родители Абеля были твердыми, очень упорными, стопроцентными большевиками–ленинцами. Ну, достаточно сказать, что отец Абеля, Генрих, он же Матвей, он же Андрей, — и чувствуете тоже, какой разброс имен, да? — он был обрусевшим немцем и он был одним из тех, кто участвовал еще в кружке Владимира Ильича Ленина Ульянова в Петербурге в 1898–м году, в кружке, который назывался "трудовой кружок за освобождение рабочего класса". Ну, вообще, понимаете, какие длинные, такие тягучие следы в историю? Он знал Кржижановского, он знал большевика Андреева. Ну, фактически он знал всех тех, кто начинал большевистскую РСДРП. И он был одним из тайных агентов большевистской партии. Он распространял "Искру".
Его жена, русская, Люба Корнеева, она тоже распространяла эту газету. И, кстати, — это уже не мое свидетельство, соврать не дадут, — предатель Вик Хейханен, который, собственно, и положил Абеля на алтарь, говорил, что Абель учил его хранить тайные материалы в корешках больших толстых книг. А Абеля этому научил, знаете, кто? Даже не папа, а мама. Потому что мать перевозила ленинскую "Искру" по всей стране в таких корешках. Интересно, что в семье существовала страшная путаница с именами. Вот, например, отца звали Генрих, но даже сам сын в письмах называл его Андрей. Причем, он всегда и отца, и мать в письмах называл на "вы", обращался к ним на "вы" и по имени–отчеству.
Ну, это традиция прошлых веков.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Это традиция прошлых веков и не только. Это традиция определенной культуры, но культуры, еще замешанной на путанице с именами. Вообще, мне повезло, мне дали книгу, Лидия Борисовна Боярская дала мне книгу. Эта книга издана в 20–м году, а потом она была переиздана чуть позже. Здесь старый большевик Фишер писал о своих, я бы сказал так, приключениях, судьба рабочего, большевика. Хотя он уже не был рабочим, а большевиком оставался. Я был поражен: он писал ее как Андрей. Иногда он подписывался "Матвей". Объяснял это тем, что люди в деревнях, на заводах его имя Генрих, ну, трудно было выговорить. А я думаю, что тут была еще и другая причина: он все время скрывался от охранки, он менял заводы, как перчатки. Он был агентом "Искры", он был агентом большевиков. И на один завод он устраивался под одним именем, на другой — под другим. То есть, охранка запуталась просто начисто. Он ускользал, его арестовать было очень сложно.
Один раз его застукали. Застукали с поличным, поймали. И он сидел на Шпалерной, там находилась царская охранка. И к нему, судя по всему, и судя по намекам, которые есть в книге, и судя по некоторым свидетельствам, применялись особые меры дознания.
М. ПЕШКОВА: Это что, пытки?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Это пытки. И вот, выяснилось, как бы на первом этапе, что, просидев около шести–семи месяцев, он никого, кажется, не выдал под пытками. Потом его отправили в ссылку, сначала — в одну губернию, в Архангельскую, потом — в Саратовскую. Он уже был женат, женился вот на фельдшерице Корнеевой. Вдруг выяснилось — это уже было в середине 20–х, когда семья вернулась из Англии в 21–м году, что, все–таки, он кого–то выдал.
Как это выяснилось? Оказывается, существовали в обществе старых большевиков комиссии, и вот эти пытки — помните, я говорил, 6 месяцев, там, 7 месяцев в тюрьме — что–то где–то как–то промелькнуло. Человека, который жил в Кремле после возвращения с женой и с двумя детьми, его несколько привели в себя, старым таким большевистским методом. Его отправили директорствовать на фабрику, то ли бумажную, то ли картонную, то ли какую–то такую, не самую великую, в город Сокол на Вологодчину. То есть, понимаете, какое жуткое было унижение? Из Кремля, из Коминтерна, где он работал, именно туда.
И я вот думаю: конечно же, это тоже была своеобразная, определенная, может быть, но ссылка. Может быть, ему повезло, Генриху. Потому что, если бы он остался в Москве, было бы еще хуже. А так он пересидел эти годы, часто возвращался в Москву, иногда к нему ездила жена, он видел сына, когда тот не был заграницей, он переписывался с сыном. То есть, он был вполне свободен. Потом он написал новый вариант своих воспоминаний, где уже отдал дань великому кормчему не по фамилии Ленин, а и по фамилии Сталин.
Говорит, что он был другом Ленина, и я не думаю, — друг, это слишком сильно сказано. Дружбы с Фишером не было, а была, я бы сказал, такая взаимная привязанность, потому что Фишер иногда брал на себя смелость и говорил своему старому другу по профсоюзу "за освобождение рабочего класса", что вот тут что–то не то в твоей работе, тут что–то не это Это было сначала. А потом, когда они уже встречались в Лондоне, на съездах РСДРП, уже отношения встали вот в тот нужный ряд, в свою колею: вождь и соратник вождя. Причем, не самый близкий. Ленин умер, и вот тут на Фишера посыпались такие шишки, мог бы, наверное, Ленин защитить. А уже когда он ушел, защищать некому было.
Из Саратовской области он вынужден был уехать. И я вот все время думал, да и все писали об этом, что вот он как бы сам уехал, — и это была такая ссылка, или это было бегство, скорее, — в Великобританию, в Англию. Выяснилось совершенно другое, что Фишера охранка царская вызвала к себе и сказала, что мы знаем, что ты занимаешься большевистской работой, ты разлагаешь рабочих, и у тебя два пути: первый путь — все равно мы тебя посадим, а второй путь, для нас даже более выгодный, — мы тебя по этапу в кандалах да в Германию, и там ты будешь не просто на этап сослан, нет, ты придешь на военный пункт, и сразу там тебя — в армию. После этого Фишер попросил германское посольство предоставить ему паспорт, уехать из страны и дать заграничный русский паспорт. Моментально эта просьба была исполнена. Вообще, аналогий у вас никаких не напрашивается, нет?
М. ПЕШКОВА: Сразу.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: А у меня, вот допустим, такие люди, как Солженицын, которых с удовольствием высылали подальше от греха и так далее. Короче говоря, он уехал очень быстро. Добрался до города, единственного города в Англии, где жил его один старинный товарищ, приятель по марксизму–ленинизму. Тот обещал ему помощь. И, действительно, первые несколько месяцев оказывал, а потом взял и вдруг внезапно умер, да еще от такой болезни, как аппендицит. И вообще, Фишеры остались одни. Туда они уехали, уже, я бы сказал, жена была беременной, она родила маленького, сынишку, очень симпатичного, блондинчика, Генриха или Гарри.
Я никак не мог этого понять: Генрих или Гарри, все–таки? И мне объясняли, что и Гарри, и Генрих, — путаница всегда была. Ну, а как, почему? Ну, по–английски, скорее, Гарри, а по–немецки, все–таки, скорее, Генрих. И этот маленький мальчик, Гарри–Генрих, хороший и очень, очень способный, был любимцем семьи. Его любили страшно, добавлю кощунственную вещь: страшно любили, в отличие от второго сынишки, который родился 11 июля 1903–го года, и которого звали Вильям. Назвали, как вы легко догадались, в честь Вильяма Шекспира, очень родители боготворили этого английского драматурга, но мальчику совсем суждено было стать не драматургом. Он неплохо учился, но был шалуном. Иногда, вместе с соседским парнишкой, они угоняли рыбацкие лодки, выходили далеко в море, за ними гнались рыбаки, они быстро плыли к берегу, рыбаки гнались за ними, никогда не догоняли. Это вообще было смертельно опасно для младшего сына Вилли, или Вильяма, потому что он не умел плавать. Его однажды папа и старший брат Гарри взяли и кинули в речку, все это было уже в их родном городе, потому что это родина была, Ньюкасл–апон–Тайн, он с трудом выкарабкался из реки.
Это, видимо, был шок на всю жизнь. И с тех пор он ни разу не заходил в воду. Он не мог ни в бассейн зайти, ни в речку, ни в море, он это ненавидел. А на лодке он греб. То есть, понимаете, любое какое—то неверное движение — и конец. Но, тем не менее, все обошлось. А вот его старший брат Гарри плавал блестяще, как рыба, это и сыграло с ним совершенно жуткую шутку. Трагическую, я бы сказал, смертельную, потому что, когда семья вернулась в 21–м году домой в Москву, она жила в кремлевских хоромах, в Кремле, в теремах, есть такие даже фотографии: вот, они в теремах. Мама работала библиотекаршей, а потом стала одним из руководителей, завклуба старых большевиков. Общалась с Марией Ильиничной, с сестрой Ленина. Но дружбы особой не было, а была совместная любовь к кошкам, обе были кошатницы. Вот на этой почве как бы и были какие–то интересы.
М. ПЕШКОВА: Писатель и журналист Николай Долгополов: кто вы, Вильям Фишер, полковник Рудольф Абель? Истории нелегала в "Непрошедшем времени" на "Эхо Москвы".
Н. ДОЛГОПОЛОВ: И вот однажды Гарри и младший Вилли поехали на далекую подмосковную речку, не Москва–реку, как вот я думал, а на какую–то речку Уча, кажется, так называется, вместе с детьми, которые вместе с ними вернулись из разных стран мира, дети, скажем так, старых большевиков, вернувшихся на Родину. Они плавали, купались, уже собирались вернуться домой. Как всегда, Вилли лежал на бережку, не ступая даже ногой в воду, а Гарри плавал, купался, он был душой компании И вдруг раздался крик, тонула маленькая девочка вот из их же компании. Гарри бросился в воду, оказалось, что девушку затягивал омут, он ее вытащил, спас, а сам попал в омут. И вот тут началась, настоящая трагедия разыгралась, его самого вытащили, пытались спасти, и вот тут, внимание: Вилли, будущий разведчик, да, и герой, он показал свою полную решительность, он пытался делать ему искусственное дыхание, он дышал рот в рот... Он всячески пытался оживить брата. Когда приехали уже даже брата забирать на телеге, мертвого, он не отдавал его. То есть, вот такой вот, я бы сказал, страшный шок: опять вода, вот. Опять все это Он пришел домой и сказал, что брат утонул. Это правда, это подтверждали несколько людей, которые это знают твердо, в том числе и дочка единственная родная Эвелина Вильямовна, мама сказала, сказала тихо, на так, что Вилли услышал: "почему же это случилось с Гарри?" И говорят, что эти "почему же это случилось с Гарри, в не с Вилли, да?", это произвело очень тяжелое и сильное впечатление на младшего сына, единственного оставшегося в живых, и он понял, что ему надо отправляться в другое плавание, в плавание по жизни, в плавание настоящее, свободное, где он был бы хозяином своей судьбы. Что ж, так и произошло. Вообще, вот, интересно, я много читал вот о нем: он был там, он был сям, он закончил тот институт, он закончил этот институт Но я, к сожалению, вынужден разочаровать людей, которые думают, что он закончил и тот, и этот институт: он никакого института не закончил. Есть свидетельство, что, как отличник в английской школе, он имел право поступить в Лондонский университет и поступил в него. Свидетельство о том, что он там учился, к сожалению, не найдено. И я смотрел по британским источникам: они тоже этого не нашли. Говорят, что он учился в институте, изучал там Индостан. Возможно, но это было недолго. Рассказывают, что он поступил в одно из училищ популярных, и там, в этом популярнейшем училище, он не сошелся с преподавателями, потому что преподаватели, да и все, я бы сказал, студенты, были в восторге от нового направления в искусстве, такого авангарда, а он был сугубым реалистом. И он разругался со всеми и ушел оттуда. Он работал в Коминтерне. И вы знаете, вот здесь есть абсолютно темные для меня пятна. Вот, он работал в Коминтерне. Ну, все, так сказать, теперь уже прошли годы, мы знаем, что это была своеобразная, скажем так, организация. Кем он работал, что он делал? Есть свидетельство, что он работал с теми, кто возвращался из–за рубежа, как и он, и как–то приобщал их к жизни. Немножечко, я бы назвал так, работа на подступах к разведке, правда? Говорил по–русски, но с акцентом. Говорил по–немецки, но с акцентом. И без акцента говорил, на, — в общем–то, как человек, родившийся в Ньюкасл–апон–Тайн, — на хорошем, блестящем английском языке, на своем родном. Есть, кстати, свидетельства, что очень неплохо говорил по–французски, но об этом попозже.
И вот, выход был такой: он пошел в армию, его призвали в армию, где он провел год в радиополку, он назывался радиополк. И вот там человек, который был технарем по рождению, проявил свои способности. Он блестяще разбирался в радиоделе. И вот здесь он был гением. Здесь ему прощали все. А было, что прощать! Было, что прощать, потому что однажды он просто смутил своего старшину, одевшись в пижаму, вся казарма сбежалась смотреть: что это за англичанин в пижаме. Как–то он смутил соглядатаев, которые об этом написали в Москву, что к рядовому красноармейцу Вильяму Фишеру приехали его иностранные друзья, даже больше того, он еще имел наглость с ними переписываться, с этими друзьями. И это тоже попало в какие–то анналы, и это было в его личном деле. И еще были некоторые вещи: иногда, как говорят, он попадал под чужое влияние, не хватало ему марксистской твердости и убежденности. Но, впрочем, ему этого не хватало, и в то же время, это и было, потому что, когда начинались, например, какие–то схватки с троцкистами, Вилли Фишер, парень, может быть, не такой сильный, но очень выносливый, он дрался по–настоящему и получал по носу, — говорят, однажды кровь из носа шла, — дрался с троцкистами. И вот, так потихонечку, все–таки, его авторитет как радиста рос. У меня есть очень интересное свидетельство, где говорится, что он окончил курсы радистов с отличием, он был одним из первых радистов, и стал в конце концов лучшим радистом в советской разведке, внешней разведке. Подружился он в радиороте со многими людьми, одними из близких друзей были такие две фигуры, — может быть, людям старшего поколения даже памятны, как Кренкель, радист, тоже полярный, участник экспедиции Папанина легендарной, и некий Царев Миша, он же Михаил Иванович Царев, он же герой социалистического труда, народный артист СССР, ну, просто, человек, который прославил наш советский театр. Вот, они дружили все. Ну, были еще такие люди, как Расс. И, кстати вот, на вечеринке у этого Расса, который тоже служил в этой самой роте, случилась приятная вещь: пришли несколько пар молодых людей, одна из знакомых Расса, чуть ли не сестра его, пригласила девочку–соседку по улице Грановского, некую Елену Лебедеву, которую никто Еленой в жизни не звал, звали все ее Эля, Элечка. И вот эта Эля сразу понравилась Вилли. Шло довольно долгое ухаживание, Эля была арфисткой, она заканчивала консерваторию. Но, вы знаете, по мнению такого педантичного, — ну скажем так, немца, да? — она плохо репетировала. Он приходил к ней, доставал часы, засекал время, читал газету, и когда Эля, час отрепетировав, пыталась отставить свою тяжеленную арфу в сторону, Вилли говорил ей: Эля, вы мало играли, сыграйте еще. Доставалась вторая газета, и замученная Эля, действительно, играла еще. Она была неплохой арфисткой, она была и в театрах, давала и сольные концерты, ездила — до войны, я подчеркиваю — по Советскому Союзу, по необъятной нашей стране, потом она работала в детском театре, потом она работала в цирке в оркестре арфисткой. То есть, вот эта арфа была с ней, арфа спасла ее и во время голодного периода Отечественной. И так вот сложилось, что после определенного периода ухаживания Вилли и Эля полюбили друг друга. Эля его немножко побаивалась, этого парня, а Вилли был в нее влюблен. И вот, решалась его судьба, родители были строги, они были недовольны тем, что сын никак не может найти свое место в жизни. Он собирался уехать на зимовку, завербоваться радистом. И где–то посвятить свою жизнь, может быть, зимовкам, он это страшно все любил. Может быть, ему, так сказать, даже хотелось устроиться на радиозавод инженером, хотя не было образования, как я говорил, но судьба распорядилась иначе. Он 27 апреля 27–го года женился, а еще через несколько дней он был принят на работу в ЧК. Есть такая байка, которая мне страшно нравится своей простотой, как и все байки, что вот его взяли туда, потому что он был верный большевик–ленинец. Да, он был комсомолец, действительно. Да, его родители были большевики. Но взяли его совсем не из–за этого. Он хорошо знал языки очень. Наверное, действительно, ЧК за ним наблюдало, он был их человеком. Но толчком к этому послужило вовсе не то, что вот пишется в старинных официальных его биографиях, что вот я решил посвятить свою жизнь, там, борьбе за Нет, его рекомендовала на работу, безработного, старшая сестра его жены. Фамилия — Лебедева, зовут — Серафима. Как она оказалась в ЧК? Неизвестно. Но она работала там переводчицей. И вот она рекомендовала мужа своей младшей сестры Эли в ЧК, поручилась за него, и его взяли в ЧК. И он стал уже кадровым сотрудником ЧК и сначала, действительно, переводчиком. Но тут не хочется говорить, что это был такой вот белый воротничок, который сидел, там, переводил Да, судя по всему, он составлял доклады, обрабатывал английскую прессу. Он был именно вот на это взят направление. Да, он был прекрасным радистом, но вот рассказывали люди, и есть такие совершенно четкие воспоминания, что он однажды пытался вместе со всеми обнаружить тех боевиков, которые бросили бомбу в здание ЧК на Лубянке. Не удалось. Зато другое дело удалось. Был такой момент, когда был пущен слух, что начинается война скоро, и люди стали скупать и прятать золото. И вот, молодой чекист Вилли Фишер был послан во главе наряда в одну из подмосковных деревень — кто–то навел на какого–то там богатого купца, и они целый день искали у него золото в доме. Не нашли. Сели вечером покурить, — куряка был Вилли Фишер страшный, — курили, курили, и вдруг под ними разъехалась поленница. И когда поленница разъехалась, то обнаружилось под ней 16 пудов серебра. То есть, Вилли Фишер задание выполнил. И — для меня это тоже было интересно — видимо, в разведке везучесть тоже имеет какое–то ему повезло, он прекрасно справился с этим заданием. И, вы знаете, есть такие свидетельства, что потихонечку от переводческой деятельности он перешел к более активной деятельности. Что это была за деятельность? Ну, вот, есть такие свидетельства, что он работал в отделе у Якова Серебрянского, а Яков Серебрянский — это был боевик по прозвищу дядя Яша. Действовал он не только на территории СССР, но иногда выдвигался и в другие страны. Ну, конечно, я не назову его никаким, там, бандитом, нет, это был человек, который служил своей Родине. Кстати, участвовал он и в покушении на Троцкого. Очень сильный, волевой, мужественный человек, он был начальником, одно время, Фишера. И потихонечку Фишера стали готовить, как тогда говорилось, к закордонной деятельности.
М. ПЕШКОВА: "Непрошедшее время" в рамках передачи "Все так". К 90–летию Службы внешней разведки России совместный проект радио "Эхо Москвы" и "Российской газеты". Кто вы, Абель–Фишер? Рассказывает писатель и журналист Николай Долгополов, автор ЖЗЛовской книги об Абеле Фишере. Вы можете выиграть эту книгу, если ответите на вопрос: кем приходился Фишеру Яков Серебрянский?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Есть такие свидетельства, что он работал в отделе у Якова Серебрянского, а Яков Серебрянский — это был боевик по прозвищу дядя Яша. Действовал он не только на территории СССР, но иногда выдвигался и в другие страны. Ну, конечно, я не назову его никаким, там, бандитом, нет, это был человек, который служил своей Родине. Кстати, участвовал он и в покушении на Троцкого. Очень сильный, волевой, мужественный человек, он был начальником, одно время, Фишера. И потихонечку Фишера стали готовить, как тогда говорилось, к закордонной деятельности. Сапогов, — а "сапоги" — это, так называемые, документы, — и изготовлять их не нужно было, потому что "сапоги", они же — документы, они у Вилли Фишера были. Что это вообще, как это? Но был паспорт зарубежный — он не отказался от подданства британского. Он был подданным Великобритании. У меня есть, даже здесь с собой, очень интересный оригинал документа, где сказано, что Вилли Фишер свой паспорт сдал в визовый отдел какой–то советской организации. И вот, он работал, и потихонечку судьба его сводила все больше с нелегальной разведкой. Он стал готовиться к своей первой командировке. И есть несколько баек, — я называю это именно так, — что первая командировка была вовсе не в Норвегию, как это считается, а в другие страны. Якобы, еще, чуть, там, не в середине 20–х, он был в Польше. Задание было такое: собрать дремавшую в Польше разведку, которая служила еще царю. Якобы, — я опять подчеркиваю, — якобы он был в Китае. И благодарные читатели, которые читали мои книги и статьи в то время еще, да? В 90–х, вдруг стали присылать мне фотографии. И на этой фотографии — Китайская стена, изображены четыре человека: это Вилли Фишер, его друг и тоже чекист Вилли Мартенс с супругой, а также человек по фамилии Абель Рудольф Иванович с женой Асей. Когда я показывал эту фотографию Эвелине Вильямовне Фишер, ее это просто бесило. Николай Михайлович, ну, похожие люди, да, и страна похожа на Китай, да. Но, видите у него здесь шляпа? Да, может быть, это и есть, действительно, Рудольф, — как она назвала "дядя Рудольф с Асей", — да, может быть, это Вилли Мартенс, но это — не мой папа, потому что папа никогда не был в Китае. А, может быть, и был, а может быть, и был там радистом, потому что уж очень соблазнительная это версия, что со стоящим Абелем Рудольфом Ивановичем, человеком, который был сыном трубочиста и говорил на шести или на семи языках и выглядел как породистый арийский дворянин
М. ПЕШКОВА: лорд.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: лорд, действительно. Их судьба свела еще в Китае. Потому что это был, действительно, человек высочайших принципов и, к тому же, просто милый человек. Мне было, например, очень интересно узнать, что он совершил, в определенном роде, подвиг, потому что, когда Чан Кайши захватил консульство в Шанхае и перебил просто физически кучу советских дипломатов, а может быть, и чекистов тоже, не побрезговав убить и китайских служащих, лишь один человек вырвался целым и невредимым из его лап. Это высокий коренастый блондин, сел на мотоцикл и прорвался сквозь строй вот этого всего Гоминьдана. Его не догнали, в него стреляли, он долетел на своем мотоцикле до какого–то города, а потом сумел добраться из Шанхая довольно далеко, до Пекина. Фамилия — Абель, Рудольф Иванович. То есть, мужественный такой человек. Вот это уже установлено документально. Он был радистом, очень хорошим. Думаю, что, может быть, вот тогда вот эта связка впервые и заиграла: Абель–Фишер, Фишер–Абель. Хотя дочка уверяет меня, что это не так.
М. ПЕШКОВА: На секунду я вас прерву. А Абель — вот, тот самый Абель, который помчался на мотоцикле, на него очень сильно похож Лабусов, как две капли воды.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Да, вот это для меня интересно, знаете, почему? Борис Лабусов — белорус.
М. ПЕШКОВА: Я потеряла голову, когда увидела снимки, просто.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Да, Борис Лабусов — белорус, а этот — рижанин типичный. То есть, он — настоящий прибалт. Кстати, вот говорят, что Рудольф Абель, в отличие от Вилли Фишера, говорил без акцента. Он был очень мил, он был очень всегда доброжелателен. Он умел сходиться с людьми. И если Вилли был иногда букой, который сторонился малышей, детей. Даже общий язык с Эвелиной, со своей дочкой, он нашел, не когда она была уже такая 5–летняя — 6–летняя девочка, а когда она стала постарше. А тот же Рудольф Иванович, или как все его называли, дядя Рудольф, он дружил с детишками. Почему так он нравился? Он такие хорошие нам делал игрушки, он лук нам изготовил. И вот этот лук долго был на даче у Эвелины, она из него стреляла, и стрелы он там ей сделал, и все прочее.
М. ПЕШКОВА: Эвелина мне рассказывала: отец любил поднимать ступеньки, лесенку на второй этаж, и там часами запирался, сидел у себя в комнате и возился с радиодеталями, с аппаратурой.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: А знаете, это уже было, лесенка на второй этаж возникла уже после возвращения из Штатов.
М. ПЕШКОВА: Да.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Это была пристройка, которая была сделана уже после 62–го года, потому что, как рассказывала та же Эвелина, отец, конечно, приехал каким–то ослабевшим оттуда из Штатов. Лет было не так и много, но он здорово устал, вымотался, и вот ему сделали на выданные разведкой деньги крупную сумму, и они решали всей семьей, что делать с этими деньгами. Хотели купить машину, это было бы очень выгодным вложением, потому что потом машину можно было и продать. И был талон на машину, и все прочее дефицит страшный. Но Вильям Генрихович сказал: ну, зачем мне эта, еще одна головная боль, зачем эта обуза? Не хочу я машину. Давайте, пристроим дачу. И семейный совет принял это решение, пристройку сделали. Он поднимался на свою верхнюю лестничку, — я тоже там был, — там стояли его инструменты, его станочек. Висели некоторые его фотографии, картины. Это был такой его, то что называется в старину, ретрит. Вот, когда он плохо себя чувствовал, когда он не хотел никого видеть, он поднимался в свое убежище на второй этаж. Вот. Но до этого надо было еще, так сказать, дожить, до второго этажа, потому что он обратился где–то, скажем так, в году 30–м, может, 31–м, в британское посольство, сказал, что его не устраивает жизнь здесь, что он разочаровался в советском строе, что у него есть дочка 29–го года рождения и жена, и он просит разрешить ему вернуться заграницу. И благородное английское посольство пошло навстречу человеку, совершенно неудовлетворенному советским образом жизни, лейтенанту Фишеру, то биш. И лейтенант безопасности Фишер получил английский паспорт и мирно уехал в одну из стран западной Европы. Там он стал работать, по–настоящему — радистом, а так, якобы, он работал инженером радиотехником, немножечко чем–то пытался приторговывать без всякого успеха, как–то что–то продавал без всякого успеха. И было совершенно ясно, что успешно он делал только одно: он блестяще передавал радиограммы из этих стран, где был, в частности, из Норвегии, из Дании, из стран Скандинавии в Москву. И здесь вот он был силен очень. Работал со многими, я бы сказал, сильнейшими советскими разведчиками, в том числе и с Александром Орловым–Фельдбиным, который в 38–м году ушел от сталинского карающего меча, предал Родину и не вернулся из одной из стран западной Европы, до конца жизни своей прожив в США. Вот, он с ним долго работал, это был его радист. И у Фельдбина–Орлова–Никольского, он же Гольден по американскому паспорту, Фишер работал в разных странах. В том числе, позволю себе заметить, и в Англии. И вот здесь — это уже была вторая командировка — в Англии он работал очень продуктивно, потому что здесь, видимо, расширилось поле деятельности. Из чистого радиста Франк — таково было его прозвище — превратился уже в более солидного разведчика. И Франк работал с теми, с которыми... мы называем довольно странным именем для меня — кембриджская пятерка.
М. ПЕШКОВА: Это Филби и остальные.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Это Филби и остальные. Но вот, например, такой разведчик и легенда нашей разведки, как Вадим Борисович Барковский, всегда корежился, слыша от меня, вот, "Филби работал с кембриджской пятеркой". Он говорил, ну, почему вы думаете "пятерка"? Может, там была шестерка? Может быть, семерка? Я говорю: может, тридцатка? Он говорит: ну, не думаю, что тридцатка. Он работал с людьми из Кембриджа, да? Которых формально или неформально возглавлял, действительно, Ким Филби. Он работал только с иностранцами. Это закон, вот, внешней разведки: как бы, со своими они не работают, нелегалы, тем более. Зачем это? И вдруг, однажды, в Лондон пришло невыполнимое задание для Франка, он же Фишер.
М. ПЕШКОВА: Совместный проект радио "Эхо Москвы" и "Российской газеты" к 90–летию службы внешней разведки России. Рассказывает писатель и журналист Николай Долгополов. Автор ЖЗЛовской книги об Абеле–Фишере.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Ему требовалось выйти на советского ученого Капицу и уговорить Капицу вернуться в страну Советов. До этого к Капице засылались его близкие верные друзья, писались письма, что его ждут здесь, но Капица не хотел возвращаться к Сталину, а все уже шло к репрессиям. Зачем талантливому и очень, в то время молодому, подающему огромные надежды, ученому было возвращаться в опасное место, такое, как Москва. Он не отказывался от гражданства, но и возвращаться не хотел. И все уговоры, все письма, все какие–то засыльные казачки возвращались, я бы сказал так, в Россию, в Москву, в совдепию без всякого успеха. Задание, как выяснилось, товарища Сталина, оставалось невыполненным. И тогда решили выйти на нелегала. В принципе, прием запрещенный. То есть, нелегалу Франку приходилось выйти на всемирно — уже тогда — известного ученого советского, русского, который работал в Кэвендише, в престижнейшей лаборатории. Которого боготворили его английские Нобелевские лауреаты, который делал фантастическую карьеру. И однажды, уже в последние годы жизни, сидя у себя дома на диване на проспекте Мира в крошечной квартирке Вильям Генрихович сказал Эвелине, своей дочке, что взял я однажды в первый и в последний раз грех на душу: никогда вот мы не работаем с русскими, с советскими, с соотечественниками, со своими гражданами. А тут пришлось. Видно, было задание такое, что не мог он отказаться. И, как уж это было, я не знаю, тем не менее, встреча двух гигантов, разведки и физики, состоялась. И скромный инженер Франк, который представился как человек, уехавший из Советского Союза и работающий в Англии, каким–то непостижимым образом уговорил Капицу вернуться в Советский Союз. Он говорил, что это большой я взял грех. Но уговорил. И вы знаете, это имело все очень такое, я бы сказал, интереснейшее продолжение. Капица тоже был незаурядным человеком. Но Капица вернулся. Ему было все понятно, уже потом его больше не выпускали долгие годы. Он осел здесь прочно, и я бы сказал, навечно почти. По крайней мере, до смерти дядюшки Джо. Ну вот, попав в беду, сам Фишер — а беда была просто крупнейшей, случилось самое худшее, что могло только случиться с человеком, который искренне и сердечно посвятил всю свою жизнь разведке. 3–го декабря 38–го года он был неожиданно вызван в отдел кадров. Там девушка–кадровичка, абсолютно растерянная, не понимающая, что к чему, дала ему подписать заявление об увольнении. Он был уволен, он не знал, за что. Начальство его не знало, за что, но он был уволен. Его работа в ЧК была несовместима с его биографией. Я, честно говоря, думал сначала, что, все–таки, вот это, взялись вот наконец–то проснулась пролетарское чутье, обнаружили в нем немца, — я шучу, да? Но нет, конечно, все–таки, я думаю, это было гораздо сложнее. Дело было в том, что ушел Орлов, и Фишеру, отозванному быстро, сразу после этого, из Великобритании, вообще было опасно гд–либо и как–либо появляться. Уж Орлов–то его знал, как облупленного. Стоило Фишеру, допустим, где–то появиться заграницей, и тут же Орлов мог его выдать. А Фишер знал всех, как радист, он со всеми общался. И тут тоже произошла такая, довольно забавная, я бы сказал, история: Орлов решил никого не выдавать. Это спорная история, выдал он или нет. У меня на этот счет свое особое мнение. Говорят, что не выдал. А я считаю, что выдал. Но, в конце концов, в тот период времени не касалось это Вильяма Фишера, он как–то прошел незамеченный. Тем не менее, он остался без работы. Мучился, никак не мог ничего найти. Но, вообще–то, вот, представьте ситуацию: 38–й год, ну, да, слава богу, такой уже самый кровавый период террора прошел. Уже Ежов уволен, Ягода уволен. Но, все равно, понимаете, это же тяжелейший период. Фамилия — Фишер. Сложно. Да? Возникает масса ассоциаций, ведь Фишер — это не только немецкая фамилия. А как эти евреи, как же они так пролезли еще и в ЧК, или эти немцы пробрались в ЧК. Ну, мерзавцы же, правда? И вот, тоже сложно, и потом, что он там делал заграницей все эти годы? Не объяснить, что был нелегалом, да? И тогда Фишер пишет письмо смелое в ЦК. Он пишет секретарю ЦК, неизвестно как оставшемуся вообще, почему—то любимому Сталиным, хотя и заклейменному им же самим троцкистом, большевику Андрееву, другу его отца, что прошу помощи. А в это время ему помогает лишь один человек, фамилия — Капица. И Капица ему подбрасывает переводы из патентной палаты.
М. ПЕШКОВА: Он уже Нобелевский лауреат?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Нет, в то время, по–моему, еще нет. Но — знаменитость. И против Капицы никто не идет. В конце концов, почему Фишеру не попереводить с его блестящим английским? Англичанину — с английского. Он переводит, он зарабатывает деньги. Вы знаете, дай бог здоровья и долгих лет жизни приемной дочери Фишера Лидии Борисовне Боярской. Она мне открыла семейные архивы, и я читал всю семейную переписку. Это было такое безденежье, что вы даже не можете себе представить. И я никак этого не мог понять. Я говорю, Лидия Борисовна, ну, папа же ваш, приемный отец, ну, все–таки, он был чекистом, он был вообще старшим лейтенантом. Ему присвоили звание после возвращения из Англии, из командировки, из которой он был отозван из–за Орлова. И звание высокое. Она говорит, а сколько было нахлебников? Он работал и получал определенные деньги, но не такие большие. Мама работала, но немного получала. Эвуня — так она называла свою сводную сестру Эвелину — Эвуня и я, мы были школьницами. Еще у нас была баба Капа, это мама жены Фишера Эли. Все мы жили впятером, там было две комнаты в коммуналке. Это был дом для чекистов.
М. ПЕШКОВА: Это дом на Грановского?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Нет, это был не дом на Грановского, это был дом в Троицком переулке. На Грановского жила Эля со своими родителями до замужества, естественно.
М. ПЕШКОВА: А еще были кошки в доме.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Не только. Главное было, конечно, не кошки. Было много кошек, но всегда и всю жизнь были собаки. И знаете, даже, вот что меня поразило, отправляясь заграницу, всегда брали с собой собак. Я говорю: а как вы взяли вот в Англию собаку Спотика? Они очень любили собак. Во все командировки с собаками. Во все поездки с собаками. И только, вы знаете, вот так я скажу, тоже вот такой перст божий, только в Америке, где он жил один, не было собак. Было не до собак. Вот. Понимаете, настолько было тяжело и мучительно там, что там он животных не заводил, потому что, если бы что–то случилось, то ясно, да? И, вы знаете, это вот безденежье, это все давило страшно. И потом вдруг приходит письмо из ЦК, что его можно взять на работу. И его устраивают на работу. Он переходит на радиозавод, и здесь я опять читаю письмо. Не кто—то мне рассказывал, а я читаю письмо Вильяма Генриховича, которое он пишет любимой жене Эле: Эля, эти два года — самые спокойные в моей жизни. Никаких нету у меня обязательств ни перед кем. Я работаю от и до, у меня нет страха, что меня поймают, я счастлив, что я здесь дома с дочками — он называл Лидию Борисовну Лидушкой, очень любил ее, это приемная дочь. Я не хочу больше возвращаться туда я сам это читал. И второе такое же письмо, датированное 44–м годом. Он пишет из партизанского отряда, где он играет роль фашистского офицера на своей советской территории, участвует в операции "Березино", он пишет все той же Эле, — как он это решился написать? — думаю, что, все–таки, с наркоматом — ну, ясно, каким, — после войны будет закончено, мы победим, вот все это мы сделаем, и я уйду. И, наконец, я смогу заняться тем, что я так люблю, что мне так по душе — живописью. Много сейчас живописцев, мне они не нравятся. Я хочу показать себя в живописи, я чувствую в себе силы. Но понимаете, но это, опять–таки, все не удалось. И, знаете, вдруг произошло так, что Фишер снова стал нужным. Но до этого я бы хотел еще остановиться на одной детали, она такая малоизвестная, но, тем не менее, типичная для Фишера, и типичная для разведчика–профессионала. Война. Август 194–го года. И Вильям Генрихович мирно едет с Челюскинской, со своей дачи на работу, на свой радиозавод. Он еще не возвращен в органы госбезопасности. Он работает инженером. У него бронь. И здесь он слышит странную речь, он курит в тамбуре, как всегда, рядом с ним покуривают два парня. Ну, типичной такой российской полубосяцкой внешности. Одетые так вот, соответственно. И один другому говорит: слушай, давай, выйдем здесь. Да нет, говорит, давай еще проедем. Говорит, да, нет, а вдруг поезд проскочит через город. Да, нет, тут вроде не должен проскочить. Давай, выйдем. И скоро, через минут пять, оба арестованы. Что это было? Почему Фишер вызвал моментально патруль, арестовал их, и два паренька, говорившие по–русски, может быть, даже и лучше, чем Фишер, оказались в застенках Лубянки, потому что Фишер знал, что поезда железнодорожные, электрички, проскакивают через город, например, в таком городе мира, как Берлин. Ему это показалось подозрительным, он вызвал патруль, патруль препроводил ребят этих двоих, упирающихся, недоумевающих, с чистыми, вроде, документами, русопятыми, на Лубянку, и там выяснилось скоро, что это два диверсанта, заброшены они Абвером, профессионалы. А почему так хорошо говорят по–русски? А на каком еще языке, если по–немецки они говорили плохо? Это дети вот той первой волны: дома все говорили, конечно же, на русском. И вот эти два парнишки были заброшены в Москву, чтобы совершать теракты. Представляете, вот это вот — профи. Это профессиональный человек, который вот такой сделал маленький такой подвиг. Но совсем не из–за этого вернули его, по–моему, вот так числа 15–го сентября 41–го года, вернули потому, что он был нужен. Дело обстояло так: Сталин понимал, что уже немец совсем близко к Москве, уже ближе некуда. И было принято кардинальное решение: неверных людей расстрелять. И как бы, знаете, многие люди были расстреляны. Часть людей была отправлена в глубь страны — арестованных — и погибла там. А часть выпустили. Что это была за часть? Вот я тут пытался понять, почему, все—таки, вдруг такая благость сошла? Кто же вот так решил помиловать — правда, ни за что, но помиловать Вильяма Генриховича, верного, действительно, и коммуниста и прекрасного человека. Говорят, что за него поручились его начальники. Кто же вот так решил помиловать — правда, ни за что, но помиловать Вильяма Генриховича, верного, действительно, и коммуниста и прекрасного человека. Говорят, что за него поручились его начальники. В частности, упоминается имя Павла Судоплатова. Человека сложной очень судьбы, сложных взглядов, но, тем не менее, говорят, что Судоплатов поручился. Есть еще версия, что поручился сам Берия. Вслепую, не зная, конечно, Фишера: нужны были люди. Ну, нужны были, понимаете? Ну, не хватало классных хороших разведчиков, потому что — еще несколько деньков, и вот они, эти фашисты, на Красной площади.
М. ПЕШКОВА: А тех, что были — истребили.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Некоторых истребили, а некоторых — вот я сейчас скажу, эти фамилии должны быть многим даже известны. Например, вернули Медведева, будущего Героя Советского Союза.
М. ПЕШКОВА: "Это было под Ровно"?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: "Это было под Ровно", писателя. Человека, который командовал партизанскими соединениями крупнейшими, командовал легендарным Кузнецовым. Его вернули. Но, как его вернули? Он формально был уволен из–за того, что, якобы, плохо себя чувствовал. Вернули прямо из застенков лубянских Яшу Серебрянского, избитого, с выбитыми зубами, его вернули. Вернули — и это тоже очень интересно — Абеля Рудольфа Ивановича, чуть позже его вернули, в октябре, потому что он тоже был нужен, и он тоже был уволен. А знаете, за что он был уволен? Вот, прямо, судьба, как у братьев у них. Он был уволен вообще за преступление страшное: его брата, большевика наивернейшего, одного из основателей вот этих латышских полков, столпов, стражей революции, его обвинили в госизмене. И его расстреляли зверски, во рву, без суда, не по решению, там, тройки, двойки, а просто по решению двойки с надписью человека: "КВМН" — к высшей мере наказания, и синим карандашом: Сталин. То есть, он верных людей своих расстреливал. И вот, расстрелял и Вольдемара Абеля, брата Рудольфа. Рудольфа моментально уволили, но к Рудольфу отнеслись, я бы сказал, снисходительно. Уж он–то совсем ни в чем не был виноват, хотя могли и его пустить под пулю. Но его сделали сначала стрелком военизированной охраны, потом — цензором, потом дали где–то устроиться работать, а потом вспомнили, потому что такие люди были нужны. Он же был нелегалом тоже, вы знаете? И я вот пытался отыскать с возможной точностью, где же все–таки он служил нелегалом, в каких странах. И у меня впечатление, что, используя дворянское происхождение своей жены Аси, он как бы работал нелегалом в Маньчжурии лет пять–шесть. Там же жили и родственники Аси. Он исчез на шесть–семь лет, вернулся — его уволили в награду. Но, слава богу, не убили. Детей у них никогда не было. И он присоединился к Вильяму Генриховичу Фишеру. Вместе они в городе Серноводске организовали мощнейшую школу разведки. Впрочем, здесь гораздо большая заслуга, конечно, принадлежит Рудольфу Ивановичу Абелю, настоящему Абелю, который вот эту школу выпестовал, можно сказать. А Вильям Генрихович Фишер мотался по всей нашей стране. Но, вы знаете, я вам скажу, что были у него очень удачные заброски агентов через линию фронта. Одна из них, я бы сказал, хрестоматийная. Что это был за агент? Это был агент двойной, так называемый. Немцы считали его своим, а наши считали его своим. Макс Гейне, а на самом деле это был наш агент, потомственный дворянин Демьянов. И вот, Демьянов был завербован НКВД, как это часто бывало, и стал служить Родине и органам верой и правдой. Он участвовал в операции "Монастырь". Что это за операция? Ну, скажем так
М. ПЕШКОВА: Она описана в литературе?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Много раз. Ну, описана она в литературе довольно подробно, а вот о том, как готовили Демьянова к ней, известно мало. И особенно меня поразило и удивило, что готовил—то, оказывается, Демьянова к переброске на ту сторону фронта не кто иной, как Фишер. Фишер учил Демьянова радиоделу. Совершенно новому аспекту для Демьянова.
М. ПЕШКОВА: То есть, такой "учитель Кэт".
Н. ДОЛГОПОЛОВ: "Учитель Кэт". Но, я бы сказал, что произошло это так: надо было Демьянова натаскивать быстро. Немцы рядом — Демьянова забрасывают на ту сторону. И вот, чтобы ускорить обучение, вызывается опытнейший педагог по фамилии Фишер, один из лучших радистов советских органов. Он делал страшные вещи с Демьяновым. Например, он заставлял его передавать ему депеши на свой радиоприемник во время немецких бомбежек в Москве. Они сидели на улице Веснина и работали там. Налетали немцы — они сидели и работали. Иногда Фишер создавал искусственные помехи Демьянову. И он натаскал его за несколько месяцев. И Демьянову это пригодилось, то есть, без этого его отправка в тыл к немцам была бы просто бесполезной, понимаете? Он учил его навыкам разведчика, он учил его тайнописи, он учил его вербовать людей, он учил уходить от слежки. То есть, он учил его, как учат нелегалов, но только в быстром темпе в прифронтовой Москве. И даже на фронт не пришлось далеко ехать, потому что он переходил линию фронта под Волоколамском. И тут случилось совершенно поразительное событие, но которое, все–таки, могло произойти только в нашей стране. Демьянова пустили через линию фронта, до которой его довел, вот, до точки, Вильям Генрихович Фишер. Фишер остался, вернулся, залег в окопчике и смотрел, как Демьянов идет по белому снегу в сторону немцев. И вдруг произошла вещь трагическая: начали под ногами Демьянова рваться мины. Оказалось, что по ошибке его пустили через то самое минное поле, которое сами и поставили, забыв указать его на карте, и Демьянов
М. ПЕШКОВА: бред какой–то
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Но это правда. И Демьянов каким–то чудом, все–таки, не получив ни царапины, дошел по минному полю до немцев. Немцы были поражены. Это, конечно, прибавило правдоподобия во всем этом переходе. Демьянова били, лупили, говорили, что он советский разведчик, что он подослан. Хотя, конечно, немцы его знали, они за ним следили долго, у него была очень известная семья: отец жены Демьянова был довольно популярным московским врачом, его жена работала на киностудии, он вращался с богемой такой киношной, в то время это редко было, но все это было под присмотром, я думаю, органов. Демьянов потихонечку вербовал немцев и показывал: я готов, я ваш. И вот, его завербовали. И неслучайно, вы знаете, Черчилль говорил Сталину, что у вас действует в штабе у Шапошникова немецкий агент. Потому что англичане перехватывали донесения, которые передавал вот этот человек, Гейне, он же Демьянов, он же Макс. Это была деза чистой воды. Очень правдоподобная. Ее готовил уже не Фишер, работали целые штабы, целые генеральские умы. И вот здесь рассказывают, что огромная роль Демьянова в том, что не поняли немцы, что же ждет их под Сталинградом. Были дезориентированы информацией, очень правдоподобной. Не поняли, что произойдет под Курском, потому что тоже не так все было передано и очень правдоподобно, и не очень. Ждали удара под Ржевом, а, оказывается, Ржев было решено отдать вот так, и все эти жизни были отданы вот так, ради больших целей.
М. ПЕШКОВА: Свыше миллиона Миллион триста пятьдесят тысяч
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Вы знаете, вот это была такая вот тактика войны, в которой участвовала, в посильных для себя масштабах, и разведка. И одним из активнейших участников был ученик Фишера Демьянов. Демьянов дослужился до того, что его взяли — ну, естественно, при помощи органов — в штаб самого Рокоссовского, и немцы хвалились, Шелленберг в своих записках, изданных, начальник, скажем, внешней разведки, назовем так, Германии.
М. ПЕШКОВА: Тот самый Шелленберг, которого играл Олег Табаков?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Тот самый, тот самый Олег Табаков, такой симпатичный, приятный иезуит, отправивший на тот свет немало людей, и избежавший вообще каких–либо казней, отсидевший, там, 7 лет, что ли, и заболевший правда, действительно, рано умерший но, тем не менее, вот он был уверен, что это — чистая игра. Что они вот, был разведчик ну, это была такая, как говорят на этом языке, как я слышал, подстава чистая. И вот этой подставой во многом — я не говорю, что полностью — руководил Фишер. Вы знаете, ведь Фишеру за подвиги во время войны дали орден Ленина. Все думают, что ему дали орден Ленина как бы за вот эти американские его эпопеи. Нет, это был орден именно за войну. Там было очень много орденов, в том числе и этот. И Демьянов так и не был пойман никогда, его попытались потом, после войны, с женой вместе уже, закинуть в Париж под видом вот такого полуэмигранта, беженца, но то ли его союзники раскусили, то ли как–то уже было неинтересно с ним Короче говоря, он быстро вернулся на Родину, ничего там не сделав. И стал снова инженером. Вот, понимаете, вот судьба человека И умер очень так, тоже необычно. Он был сильный такой человек, занимался спортом, греб по Москва–реке на лодке и умер прямо в лодке от разрыва сердца, мгновенная смерть. Ну, это мы немножко отвлеклись. Вот это был один из учеников Фишера. Еще были ученики, о которых мне рассказывала Эвелина. Я все время спрашивал: Эвелина, ну, неужели, вот папа вам не рассказывал о том вот, кого он учил. Ну, вы же должны были видеть, хотя бы, этих людей, потому что общение было близкое. И Эвелина — к концу жизни она стала более разговорчива — ей что–то хотелось мне рассказать — и какие–то вещи она мне рассказывала. Говорит, вы знаете, вот были два парня, два красавца—немца молодых. По—моему, даже, говорит, это были австрийцы. Я, говорит, не знаю, что папа с ними сделал, потому что это были еще два близнеца, и два таких красивых парня, что они бы просто, ну, сразу попадали бы под внимание под чье–то. И я однажды спросила, когда они зашли к нам домой, и вдруг: папа, зачем они? Сейчас возьмем швейную машинку, нам надо что–то подшить, обмундирование. Унесли эту машинку, подшили, пришили, вернули эту машинку назад. И Эвелина говорит: я потом спросила то, что не имела права спрашивать, уж очень мне эти два парня—арийца понравились. Я говорю, а как судьба их сложилась, папа? И тут Вильям Генрихович очень помрачнел и сказал: она сложилась трагически. Оба были убиты, ничего не успев сделать, еще в момент высадки над Югославией. То есть, нельзя сказать, что все вот складывалось удачно, как вот у Гейне–Макса, он же Демьянов. Были и вот такие трагические эпизоды. Были и удачи. Например, это Березино, когда Фишер дурачил, вместе с разведкой всей, целые полки немецкие, которые скидывали им оборудование. Людям, которые якобы сражались в лесах Белоруссии в котлах, немецкие войска оказывали сопротивление. Это была фикция чистая, придуманная НКВД, но, тем не менее, в это верили, и последняя телеграмма: держитесь, Gott с вами — бог с вами, пришла 7–го мая уже, когда уже все было закончено, уже и Гитлера не было, а там все еще верили, что борется группировка немецкая в лесу. Ну, это тоже такая, я бы сказал, хитрая такая придумка, на которую немцы проклятые попались и им сбрасывали оборудование, диверсантов, деньги, что угодно. Сидел Фишер, когда нужно было, он наряжался в форму немецкого офицера, и здесь ему не было равных, потому что, конечно, европейское такое воспитание. Ну, а почему бы нет? Вот, такой офицер, немолодой уже, выходил. Еще вот об одной я расскажу вещи, тоже военной, которая меня поражала. Она попадалась мне несколько раз в эпизодах, связанных с Молодом. Молодый — это тоже разведчик—нелегал, который работал в Англии, и в Штатах, и в Канаде под именем Бена Гордона Лонсдейла. Так вот, Бен рассказывал просто какие—то страсти, что однажды под Гродно он был сброшен за линию фронта, документы плохие, липовые И здесь ему страшно не повезло: моментально его арестовали, моментально препроводили в Абвер, моментально завели в какую–то ухоженную хорошую избу с высоким крыльцом. Сидел там полковник, посмотрел быстро на его документы, все сразу понял, сказал: партизан. Молодый покачал головой, что нет, не партизан. Тот сказал: партизан. Развернул его, вот, как в старых фильмах это мы видели, дал сапогом начищенного штиблета по копчику — назовем это так, и Молодый слетел с крыльца высокого. Он ждал выстрела в спину, выстрела так и не последовало. Немецкий полковник кричал и ругался на него, и он шел, шел, потом побежал он был спасен. И вдруг в Нью–Йорке, в зоопарке, — а именно в зоопарке любил Абель–Фишер встречаться со своими агентами, — была назначена встреча с неким резидентом по имени Марк, и когда Молодый вдруг столкнулся лицом к лицу с этим Марком, он опешил: перед ним стоял полковник из Абвера. Опешил и абверовец, сказав: елкины–палкины, партизан. Это было как пароль. Правда это или нет? Я думаю — ложь, потому что сын Молодова Трофим говорил мне, что этого не было, папу не сбрасывали вот так. Он ходил, конечно, в разведку, он был на той стороне, но вот так за линию фронта — нет. Но вот это вот была такая история. Об этом рассказывал мне и писатель, полковник КГБ Мутовин. Он говорил, что об этом говорил ему лично Молодый, и даже, общаясь с Фишером, Молодым вместе, Мутовин слышал такую шутку: ох, побаливает копчик. Правда это или нет? Я, все–таки, думаю, что неправда. И все–таки, война подходила к концу, свою мечту о том, чтобы бросить наркомат Фишер не только не осуществил, но и не думал осуществлять, потому что пришли новые заботы: семья вдруг стала замечать, что все чаще и чаще ездит их отец и муж в Прибалтику. Почему в Прибалтику, зачем в Прибалтику? Оказалось, этого требовала новая легенда, которую майор Фишер успешно осваивал у своего начальника Короткова, начальник всех нелегалов принял от Фишера рапорт, в котором тот писал — это было в 47–м году — что просит перевести его в нелегальную разведку и обещает отдать жизнь за Родину, не выдав тайну даже при аресте. Вот, интересно, вещее письмо оказалось. Так и произошло. И Фишер в Прибалтике, видимо, нашел человека, за которого ему какое–то короткое время пришлось себя выдавать. Вообще, он же въехал в Штаты как прибалт, Эндрю, или Андрей, или Энди Кайотис. Это произошло очень легко, произвольно, я бы сказал, внешне неброско, когда корабль из Германии под названием "Скифы", отчаливший из какого–то немецкого портового города вдруг с течением времени пришвартовался в Квебеке, и Кайотис сошел на берег, исчез, растворился и после этого объявился в Нью–Йорке. В Нью–Йорке он жил по маленьким отелям, иногда с ним происходили абсолютно непонятные случаи. Об одном из них я сейчас расскажу, потому что он несколько смешной и совсем не типично разведывательный. Фишер поселился в крошечном отеле в самом, наверное, дешевом, но, как ему казалось, довольно приличном, потому что он был чистенький. И вот, каждый вечер, возвращаясь домой после прогулки или из кино — он осваивался с Нью–Йорком — на пороге комнаты какой–то ему попадалась всегда одна и та же красивая особа в пеньюаре. Она выскакивала в коридор, зазывала Фишера, смотрела на него Красивая молодая девушка. Фишер не мог понять, в чем дело. Откуда эта женщина? Почему она его все время приглашает к себе? Однажды он даже зашел, они сели за столик, Фишеру было предложено кофе, он не отказался. Тут раздался звонок, девица о чем–то защебетала по телефону, и Фишер понял, что ее срочно вызывают на встречу с каким–то джентльменом. Оказалось, что это так называемая call gerl,попросту говоря проститутка, и вот Фишер, блестяще подготовленный как разведчик, вот с такими реальностями американской жизни знаком не был. Девушка сразу его забыла, бросила И исчезло давившее его несколько дней чувство боязни: почему меня, за что я, что во мне такого привлекательного? Оказалось, что просто проститутка, может быть, искала легкого заработка с человеком, который живет за стенкой. Ну, Фишер был верен семье. Кстати, вот это тоже тема верности, тоже интересная тема, правда? В общем–то, 10 лет там, один заезд, скажем так, один известный заезд в Москву в 55–м году, где–то на 4–5 месяцев. А так один, без жены. И рассказывал мне очень хороший человек, связник полковника Фишера, Юрий Сергеевич Соколов о том, как ему однажды было приказано проверить моральные качества Фишера. Из центра пришла депеша: узнайте, как он там, один или есть кто на стороне? И вот, Фишер и Соколов, его связник, из легальной разведки поехали куда–то далеко, говорили о делах о серьезных, говорили о том, как лучше наладить работу, говорили о том, что скучают по дому И Соколов, молоденький старший лейтенант, все ждал момента, когда же можно будет вступить и спросить, в конце концов, ну, как там, как вот этот деликатный вопрос
М. ПЕШКОВА: На личном фронте?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Да, и на личном фронте. Фишер посмотрел на него внимательно и сказал: нет, я один, мне никто не нужен, я очень люблю жену и я ей верен. Потом они сели в машину, Соколов стал прогревать мотор. Они говорили по–русски, и Фишер спросил Соколова, уже без псевдонима, а так: Юра, а скажи, пожалуйста, что, в Москве начальство сменилось? Соколов опешил: да, сменилось. А откуда вы узнали? Да нет, ты знаешь, это просто так бывает, каждые несколько лет, когда начальство меняется, мне задают один и тот же вопрос, проверяют. Все также, я верен своей жене. А еще однажды он попросил Соколова о том, чтобы его Элю прислали к нему в Нью–Йорк. Соколов спросил: а как вам это видится? И вот здесь Юрий Сергеевич Соколов, который был очень неплохим поэтом, он был и писателем, но книги свои не мог издавать. Я думаю, то их рукописи хранятся под грифом "совершенно секретно" или, в крайнем случае, для служебного пользования, но Соколов клялся мне, что именно отсюда и была взята Юлианом Семеновым та незабвенная сцена встречи Штирлица со своей женой. Я говорю, а как мог узнать об этом Юлиан Семенов? Говорит, может быть, читал мои донесения. А донесение было такое: пришлите мне жену, и я хотя бы краешком глаза на нее посмотрю — попросил Вильям Генрихович своего молодого друга–связника. Как вам это видится? Ну, вот она пойдет по улице, а я пойду рядом, и мы куда–нибудь зайдем, сядем и я увижу, на нее посмотрю и уйду. Соколов крепко задумался: осуществить это было очень сложно. И сразу — ворох мыслей: как провезти женщину, которая не особенно хорошо говорит по–английски, в Нью–Йорк? Сначала ее привезут в Нью–Йорк, потом устроят в какое–нибудь торгпредство, и тут же мысль его, ту, которая молчаливо бродила в голове, подхватил сам Фишер: да, ее привезут в торгпредство, потом я захочу с ней увидеться. Потом вы устроите мне встречу где–нибудь с ней в гостинице, а потом нас и вас застукают. Юра, забудь мою просьбу, не привози ко мне никакой жены. Буду терпеть. Вы знаете, вот это вот, действительно, такая вещь и когда мне говорят, вот, вы знаете, Фишер все–таки был непрофессионал. Ну, что такое? Нашли в контейнерах его письма, письма жене, супруге, письма от них. Ведь это же тоже подвергало риску себя и других людей. Ну, не мог он уничтожить письма людей, горячо любимых. Он их очень любил, он их боготворил. Это было единственное, что у него было в жизни. Ведь больше ничего не было, вы понимаете? Богатства не было, судьбы своей собственной не было. Было много судеб, он жил под пятью, под пятью, я подчеркиваю, личинами, и ни одной собственной. Все судьбы были отданы разведке. И здесь Вильям Генрихович был, действительно, честнейшим человеком: он решил в конце концов, что так и будет один до встречи с женой. А Эля писала ему письма очень трогательные. И говорила о том, что, ну, давай, хотя бы поживем для себя. Я мечтаю, чтобы ты вернулся. Дочка уже большая. Ведь мы так и не пожили, ведь мы все время были где–то, мы все время чего–то ждали, нам было так трудно. А сейчас мы можем жить для себя, мы можем, наконец, быть вдвоем. И он отвечал ей тем же, очень любя Эвелину, конечно: да, вдвоем, да, тем же, да, я скоро вернусь Действительно, семья–то ждала его возвращения в 57–м году, им очень тонко намекнули: вы не собираетесь далеко уезжать? Нет. Отец ваш, возможно, скоро вернется. И даже, когда они его не дождались, оставили ключи от дома соседям, от новой квартиры, потому что были уверены, что папа скоро будет, папа скоро приедет. Но папа так и не приехал, и командировка затянулась на долгие–долгие годы. Рассказывал мне покойный художник, он же — полковник, он же — заслуженный деятель культуры Российской Федерации, Павел Георгиевич Громушкин, он же человек, который работал здесь, в цехах "Правды", работал полиграфистом, гордился тем, что хорошо знал Кукрыниксов, был прекрасно знаком с таким человеком, как Борис Ефимов, называл его "Боря", но судьба распорядилась так, что его в 38—м году забрали в органы. Он не хотел, но пришлось. Кстати, я думаю, что он и документы Фишеру изготовлял, такое есть у меня подозрение. Потому что именно он изготовлял документы Николаю Кузнецову и вот его обер–лейтенант Зиберт , который прошел несколько сотен проверок, это все сделал Громушкин своими полиграфическими и художническими руками и пальчиками. Ехали они уже в аэропорт, потому что, если встречали в аэропорту Эвелина с мамой, то провожали в аэропорт уже одни чекисты, а точнее, один Громушкин. Они сидели в машине и, словно предчувствуя очень недоброе, Фишер сказал своему старому другу, которого он знал с 38–го года: Паша, ты знаешь, наверное, не надо мне ехать, уж очень долго я там просидел. Да и старый я уже, 54 года, тяжело мне, один, все время один. И тут стекла скупая слеза, слеза у нелегала, у мужественного нелегала, тяжело. Громушкин пытался утешить Фишера, сказал: ну, Вилли, осталось немного, ну, потерпи еще годок–полтора, скоро конец, скоро уже, действительно, закончится эта твоя командировка. То ли предчувствовал, что есть такой предатель, которого зовут Вик Хейханен, то ли, может быть, было какое–то другое предчувствие, что пора уже уезжать. Я думаю, что все–таки, вот есть у разведчиков какие–то предчувствия, есть. Мне многие рассказывали нелегалы, что они буквально чувствовали: вот туда можно идти, а сюда нельзя идти, лучше перейти направо, налево Не подводило их предчувствие. И Фишера оно тоже не подвело. Но надо было ехать. Вы знаете, тут сейчас последние годы развернулась целая дискуссия: кем был, вообще, Фишер. Очень интересная дискуссия для меня, ведут ее люди, далекие, скажем, от темы, но очень заинтересованные в продвижении своей точки зрения. Я с удовольствием их читаю, потому что мне это даже любопытно. Ну, во–первых, говорят, что Фишер — это вообще русский парень и никакого отношения к немцам не имеет. Говорят, что ничего вообще подобного, вы посмотрите вот на эти фото, на которых он со своей Элей изображен около березки. Да, еврей он типичный! Да и фамилия тоже еврейская. А люди, которые знающие, говорят: это настоящий англичанин. Чего они там морочат голову, что немец, там, обрусевший Да он родился, там, завербовали его, вернулся он конечно же, это просто англичанин. Поэтому и держался среди американцев. На самом деле, конечно, это все не так. Как не так и другое: говорят, что ничего не сделал вообще. Ничего. Бесполезный был заезд. Да, был почтовым ящиком. Да, передавал, да, и очень искусно, умело, создал целую сеть радиопередатчиков по побережью даже, доезжал, там, до Лос–Анджелеса. Он был радист, собирал все свои депеши от всяких там вот нелегалов и все передавал в Москву.
М. ПЕШКОВА: А разве этого мало?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Но это не так. И этого было бы не мало. Передавать депеши в течение 10–ти лет с половиной, 9–ти с половиной, даже это было бы много, понимаете? Но это было совсем не так. Я расскажу о том, о чем известно мало. Вот о том, о чем мне предоставится честь рассказать в моей выходящей книге "Абель–Фишер", которая в ЖЗЛ выходит, в молодогвардейской серии. Вы знаете, что сделал Фишер в первые же годы своего пребывания в Штатах? Ну, давайте так скажем честно, потому что об этом можно говорить: он был руководителем сети российских американских советских — называйте, как хотите — атомных разведчиков–нелегалов. Я подчеркиваю: нелегалов. Он добывал секреты атомной бомбы. И вот, когда говорят: а атомная–то бомба была! Была, но средства доставки, средства испытания, новые виды, новые модификации Фишер все делал правильно и очень быстро. В 49–м году, сразу после приезда он принял на связь двух нелегалов, выдающихся нелегалов, о которых мы уже упоминали, двух будущих героев России, Лесли и Мориса Коэнов. Что они сделали? Они добывали чертежи атомной бомбы. Он беседовал с одним человечком, решающим человечком в истории добычи Советами американских атомных секретов. Можно что угодно говорить о том, что очень хорошо потрудился Курчатов. Курчатов потрудился не хорошо, а блестяще. Но "бороде"—Курчатову помогала разведка. Бывало так, что за месяц Курчатов изучал три тысячи страниц, переданных ему советскими разведчиками, среди них было и множество страниц, переданных Фишером и его группой "волонтеры". Так вот, входил в группу "волонтеров" один молодой парнишка, физик, которого взяли в Лос–Аламос, секретнейшую американскую лабораторию в 18 лет. Я говорил о нем с Коэном, и американец сказал мне, что, вот, зря вы о нем спрашиваете, я никогда о нем ничего не расскажу, да и дело в том, что, понимаете, я его могу и выдать. И тут я почувствовал: как выдать? Он что, жив? Коэн замолчал. Да, нет, я не думаю, что он жив. И я сейчас знаю, что Коэн знал, что он жив. Вы знаете, этот человек был жив, он жил уже, правда, не в Штатах, в Штатах его, все–таки, однажды, или несколько раз даже допрашивали, его заподозрили. Он никого не выдал. Это был человек, который действовал под именем Персея. Персей, он же Млад, он же — еще несколько было у него псевдонимов. Да, это тот человек, который в свое время передал — еще не было тогда Фишера в Америке — для Лоны, которая его ждала около трех недель, он передал ей в Альбукерке чертежи атомной бомбы.
М. ПЕШКОВА: "Непрошедшее время" в рамках передачи "Все так". Служба внешней разведки Российской Федерации отметила 90–летие. О легендарном разведчике—нелегале Абеле—Фишере в совместном проекте радио "Эхо Москвы" и "Российской газеты" рассказывает писатель и журналист Николай Долгополов, автор недавно вышедшей ЖЗЛовской книги в издательстве "Молодая Гвардия". Вы станете ее обладателем, если ответите на вопрос: кто был по профессии агент, скрывавшийся под оперативным псевдонимом "Персей", передавшим для русских чертежи атомной бомбы? Сегодня продолжение программы от прошлой субботы.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Что сделал Фишер в первые же годы своего пребывания в Штатах? Ну, давайте так скажем честно, потому что об этом можно говорить: он был руководителем сети российских американских советских — называйте, как хотите — атомных разведчиков–нелегалов. Я подчеркиваю: нелегалов. Он добывал секреты атомной бомбы. И вот, когда мне говорят: а атомная–то бомба была! Была, но средства доставки, средства испытания, новые виды, новые модификации… Фишер все делал правильно и очень быстро. В 49–м году, сразу после приезда, он принял на связь двух нелегалов, выдающихся нелегалов, о которых мы уже упоминали, двух будущих героев России, Лесли и Мориса Коэнов. Что они сделали? Они добывали чертежи атомной бомбы. Он беседовал с одним человечком, решающим человечком в истории добычи Советами американских атомных секретов. Можно что угодно говорить о том, что очень хорошо потрудился Курчатов. Курчатов потрудился не хорошо, а блестяще. Но "бороде"–Курчатову помогала разведка. Бывало так, что за месяц Курчатов изучал три тысячи страниц, переданных ему советскими разведчиками, среди них было и множество страниц, переданных Фишером и его группой "волонтеры". Так вот, входил в группу "волонтеров" один молодой парнишка, физик, которого взяли в Лос–Аламос, секретнейшую американскую лабораторию в 18 лет. Я говорил о нем с Коэном, и американец сказал мне, что, вот, зря вы о нем спрашиваете, я никогда о нем ничего не расскажу, да и дело в том, что, понимаете, я его могу и выдать. И тут я почувствовал: как — выдать? Он что, жив? Коэн замолчал. Да, нет, я не думаю, что он жив. И я сейчас знаю, что Коэн знал, что он жив. Вы знаете, этот человек был жив, он жил уже, правда, не в Штатах, в Штатах его, все–таки, однажды, или несколько раз даже допрашивали, его заподозрили. Он никого не выдал. Это был человек, который действовал под именем Персея. Персей, он же Млад, он же — еще несколько было у него псевдонимов. Да, это тот человек, который в свое время передал — еще не было тогда Фишера в Америке — для Лоны, которая его ждала около трех недель, он передал ей в Альбукерке чертежи атомной бомбы. То есть, его заслуга, ну, я думаю, первостепенна. Кстати, действительно, человек это жил, он умер в конце века в Англии, его фамилия была Теодор Холл. И вот с этим Теодором Холлом, который был известен советской разведке под кличками Персей и Млад, Фишеру пришлось встретиться. Почему? Потому что Млад был идеалистом, он хотел паритета атомного, он верил в то, что Россия и США — союзники, но, когда закончилась война, ему, грубо говоря, не захотелось больше работать на Советы. Все закончилось. Но, в конце концов, сколько можно? Да и, потом, риск смертельный абсолютно. Смертельный же риск. В конце концов, Розенбергов, которые, я подчеркиваю, никогда не были атомными шпионами, казнили на стуле электрическом. Их судьба, действительно, вот, попали не за то и не за что, понимаете? И, тем не менее, мы уже говорили о том, что он, Фишер, уговорил, скажем так, Капицу вернуться, а Персея–Млада, Теодора или Тео Холла, он уговорил не вернуться, он уговорил продолжать. И еще несколько лет Персей таскал для нас каштаны из огня. Именно усилиями Фишера. Он был уговорщик. Есть такая тоже, понимаете, небольшая специализация нелегальной разведки. Он уговаривал людей. У него был дар уговорить человека. И вот Фишер его уговорил работать на нас, на него. И да, этот человек входил в группу, которая называлась "волонтеры". Вы знаете, я встречался с одним разведчиком, имени его я не могу назвать. Когда я ему рассказал про смерть Персея, этот человек, в больших чинах, очень… ну, он был уже стар, царство ему небесное, — он разрыдался. Жена прибежала: зачем вы волнуете моего мужа! Я говорю, я не знал, что он был не в курсе. А, что вы, не надо ему рассказывать! Он говорит: надо, надо! Он меня звал "Колька", — Колька, ты не можешь себе представить, насколько это был святой мальчишка! В 18 лет был гением. Работал на нас ну, просто, ни за что, денег–то не брал вообще. Вообще не брали денег за идею, не был коммунистом, кстати, хотя был человеком левых взглядов. И до конца дней своих боролся и против идей Рейгана, против всех этих атомных войн, против всех этих систем. Был такой святой человек, понимаете? И не коммунист. И вот, он умер, и тайна его с ним была бы унесена, если бы не эти все наши расследования. Он, действительно, был человеком благородным, не выдал ни одного имени, ни одного человека. Жил в Англии с женой, с детьми. Жена была тоже член движения за мир — вот они такие были. И им казалось, что — и заслуженно казалось — что, если они будут с Советами, с Россией, то, во–первых, Россия выиграет войну, во–вторых, разгромит Гитлера, и, в–третьих, установит атомный паритет, что, собственно, и произошло, понимаете? И этим человеком тоже определенный какой–то отрезок времени руководил Фишер.
Еще одна вещь, о которой мало совсем пишется вот в нашей прессе. Ну, Фишер, он создал же сеть не только в Нью–Йорке, он создал сеть и на побережье. Очень интересна такая вещь: советские нелегалы — причем, это уже были нелегалы другого пошиба. Нелегалы, я бы сказал, давайте, так своими словами, ну, не обидными, ну, диверсанты, да? Они работали в странах Латинской Америки. Почему? Потому, что, если бы началась война, а такое было вполне вероятно, СССР — США, да? То наши диверсионные группы во главе с этими нелегалами, прошедшими партизанские отряды и все прочее, они бы стали взрывать корабли, которые плыли в США с вооружением, они бы стали проводить диверсии. Третья линия, которую создал Фишер — он связался с немецкими подпольщиками бывшими, антифашистами, не коммунистами, осевшими в США, и тоже кое—какие вещи они создали. Плюс к этому, конечно же, он, я думаю, изготовлял различные документы, плюс к этому он, конечно же, был гениальным абсолютно радистом. И умел ладить с людьми. Другое дело, что агенты менялись, сначала он руководил Коэнами, потом, так сказать, взял на себя заботу другой человек. Потом Коэнов вообще вывезли. У него была огромная сеть. Я вот иногда думал: как, все–таки, он оставался незамеченным? И здесь я приведу свидетельство, никогда в России и в Советском Союзе не публиковавшееся, его друга, я бы сказал, соратника, если хотите, единомышленника по художественной его мастерской, знаменитого американского популярнейшего, я подчеркиваю, и живущего до сих пор живописца, Сильвермена, Берт Сильвермен. Он жив. Недавно проводилась его выставка. Ему очень много лет. Хотя он, конечно, был моложе, чем Фишер. Так вот, Берт Сильвермен подружился с человеком, которого он знал как Гольдфус. Они были друзьями, и даже больше того, друзьями близкими. Так, например, Гольдфус был приглашен на свадьбу к Сильвермену, он знал его жену. Он знал его маму. И вот здесь в воспоминаниях Сильвермена, которые были давным–давно опубликованы в журнале "Эсквайр", вот, все–таки, попались некоторые вещи, которые меня смутили. Вот, эти вещи я могу рассказать. Вы знаете, какие–то были косвенные свидетельства того, что, все–таки, что–то как–то у этого человека по фамилии Гольдфус, которого Сильвермен называл просто Эмилем, было не совсем так. Во–первых, Гольдфус имел какой–то акцент, странный акцент. И Сильвермен его почувствовал. И тогда Гольдфус объяснил, что это шотландский акцент. Почему шотландский, я уж не знаю, но все–таки, это был не американский акцент. В Америке это проходило легко. Страна, населенная горячим пирогом из народов и национальностей, естественно, это прощала. В другой стране, может, это не прошло бы. Это первое. Второе — никогда в жизни Гольдфус не представлял Сильвермену и его коллегам своих друзей. Он говорил: "… один парень, которого я знаю…", и на этом все заканчивалось. Никогда он не видел его с женщиной. Он был всегда один, как перст. Никогда он не приглашал никого к себе домой, тоже странно.
М. ПЕШКОВА: Это все правила разведчика.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Все правила, которые он соблюдал, но которые, тянувшись годами, создавали какие–то подозрения. Вы знаете, вот что я хочу сказать? Все–таки, видимо, вот почему работают разведчики парами? Нелегальные пары, нелегальные супруги. Да, вот это все? Потому что легче вдвоем это все прикрывать, чем одному человеку. Один, как перст. И вот, знаете, вот тут какие–то у Сильвермена возникли подозрения, что что–то не так. Однажды ночью, как мне показалось, Фишер был на грани провала. Он сидел очень мирно со своим другом Сильверменом у себя в своей маленькой мастерской. Они слушали какие—то мелодии джазовые, и вдруг в соседней мастерской у Сильвермена зазвонил телефон, он там пошел, заговорился со своим другом. Сильвермен долго говорил очень, и тогда к нему, в его маленькую мастерскую пришел сосед Гольдфус: где ты, Берт? И Берт сказал по телефону в шутку какому–то своему приятелю: слушай, вот сейчас ко мне зашел Эмиль, мы с ним тут так хорошо слушали Москву, московское радио, и так хорошо с Москвой поболтали, ну, до свидания. Здесь Гольдфус побледнел, он изменился в лице буквально, и он сказал первый и последний раз довольно грубо Сильвермену: никогда в жизни больше такой чуши не говори, особенно когда ты говоришь по телефону. Почему? Потому что есть какие–то опасения, или были у Фишера какие–то опасения что, возможно, закладываются при прослушке, просто такой случайной поголовной, какие–то кодовые слова, и слово "Москва" могло быть вот этим кодовым словом, после которого бы началась настоящая прослушка. Я не уверен, что в 56–м — 57–м годах такое было уже, но, может быть, Фишер, подкованный технически, этого боялся. Может, он что–то слышал, может, он знал это. Короче говоря, вот это его очень насторожило. Но Гольдфус после этого дулся на Сильвермена несколько дней. Ну, потом снова все было хорошо. И еще один случай, тоже настороживший Сильвермена. Они распрощались как–то на время. И как объяснил свое отсутствие Эмиль Гольдфус: он сказал, что он едет продавать свое изобретение в какой–то штат, довольно далекий. Что его не будет, может, месяц–два, потому что потом он попутешествует, и потом он, может быть, еще где–то останется передохнуть, отдохнуть. И Сильвермен об этом забыл. Он уже был женат. Уже как бы были другие заботы. Проходит месяц, два, три, четыре, наступает уже Рождество. Для американцев, как вообще для всех западных людей, святое, вообще, время года. Люди друг друга поздравляют, ходят друг к другу в гости. А Гольдфуса нет. И тогда Сильвермен здорово забеспокоился. Он очень беспокоился, и даже хотел объявить его в розыск, стал узнавать, где находятся розыскные бюро. Но для начала обратился к мальчишке, консьержу, который тоже сказал, что я, говорит, тоже волнуюсь, где этот Гольдфус. Мне сказали хозяева дома, где вы оба снимаете свои мастерские, что если еще он не появится в течение месяца, мы его вещи соберем и выкинем все. Ну, как вы знаете уже, в это время Вильям Генрихович Фишер был дома в Москве, он пробыл в Москве приблизительно с июня–июля 55–го до приблизительно середины сентября этого же года. И вот, когда он появился, Берт на него набросился: Эмиль, ты что делаешь? Ну, ты хотя бы мог мне позвонить, ну, ладно, написать, хотя бы открыточку с побережья! И тогда Эмиль очень хладнокровно сказал, что я не хотел на тебя, мой дружище Берт, вешать свои заботы. Ты знаешь, — и кстати, это было для него типично, — я не хотел тебя беспокоить. Дело вышло так, что я заболел, в Техасе я попал в клинику; полчаса он Берту описывал клинику, врачей, их фамилии. То есть, заготовка была. Какая–то подстраховка была. Может, какой–то человек там был, на него похожий, я уж не знаю, как. Но, понимаете, это было рискованно. И я подумал, а почему бы, допустим, не подготовить какую—то открытку, которая бы пришла Берту, опущенная из какого–то американского городка: вот, я здесь, как люди американские друг другу посылают же открытки, любят, раньше, по крайней мере, любили это делать. Вы знаете, я думал, вот, черт возьми, ведь был же у него все—таки связник Вик Хейханен…
М. ПЕШКОВА: … который потом его сдал.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Который, да, Рейно. И вот тут я подумал, что, подонок Рейно, ему же нельзя было ничего доверять. Потому что, что случилось с Рейно? Когда Фишер уехал в отпуск, об этом прекрасно знал Вик. И здесь он полностью — давайте используем такой хороший штамп советский — распоясался, да? Он пил безбожно и без этого, а здесь он просто спился. Фишер оставил ему 5 тысяч долларов, по тогдашним временам это величайшая сумма. Эти 5 тысяч долларов Рейно Хейханен должен был передать семье одного арестованного советского агента, который был посажен в тюрьму на долгий срок. Семья его бедствовала. Нужен был хороший юрист, который бы помогал, по крайней мере, семье и, может быть, смягчил бы, скостил бы срок этому человеку. Эти деньги Рейно пропил. Это был настоящий служебный подлог и уголовное дело. Фишер пытался привлечь его к каким—то своим делам, не особенно удавалось. Рейно был неспособным человеком. Он блестяще, как все, наверное, карелы, говорил на финском, он освоил все. Главным его достоинством было то, что у него имелся настоящий американский паспорт, который он сам себе сделал без помощи, скажем даже, центра. Но это было единственное достоинство, потому что он женился на финской красавице блондинке, ее фамилия, как сейчас помню, Хурике, Ханна Хурике. И вот с этой Ханной Хурике они пили до бесчувствия. И иногда происходило так, что начиналась поножовщина. И вот агента советской разведки доставляли пьяным в участок. И чтобы хоть как—то отвлечь Хейханена Рейно от всего этого безобразия, для него придумал Фишер занятие. Он хотел, чтобы он занялся цветной фотографией. Дал ему денег и снял мастерскую рядом с его домом. И тот ему рассказывал: скоро все будет готово, скоро все вот уже наладится, скоро я открою все. Однажды, не веря уже больше в это "скоро", Марк, — так его звали, такая была вот кличка, такой псевдоним, — Марк приехал вот в мастерскую, увидел, что ничего не сделано. Годы работы никакой не велось. То есть, обманывал его Рейно. И тогда в Москве он уже обратился с просьбой. Стучать на своих у разведчиков не принято. Это не какая–нибудь другая специализированная служба, где это, наверное, воспринимается нормально. Стучать на своих во внешней разведке — это… ну, это какое–то подонство, которое люди себе не позволяют. Потому что идет работа совсем с другим контингентом, зарубежным, свои здесь ни при чем. Это как предать самого себя. Но пришлось, и он попросил, подполковник тогда, Фишер попросил убрать своего связника из Штатов. Почему–то просьбу эту восприняли, но выполняли довольно долго. Выманить Хейханена оказалось сложно. Придумали целую, там, уловку: ему присвоили звание полковника, сказали, что наградили орденом и предложили выехать в Москву на переподготовку, на вручение ордена. Хейханен несколько месяцев сопротивлялся, тянул, но, в конце концов, он выехал, и в этот момент выехал и Фишер. Ему предложили или приказали из центра уехать из Нью–Йорка и где–нибудь поселиться. Он поселился в Форт–Лодердейле, он жил там во Флориде несколько дней, а потом и недель даже, в номере под чужой фамилией, и вот там его и нашла радиограмма из Москвы, что все, Хейханен уехал, он уже в Париже. И вот завтра он уезжает уже из Парижа в другой город, а из другого города — в Москву. И Фишер вернулся, хотя, может быть, делать этого не следовало, потому что известный факт: Хейханен никуда не уехал, в Париже он уехал лишь до Американского посольства. Сдался. Ему не верили: пьяница, 38–летний человек, который выглядел как старик, спившийся, дурно пахнущий, уже, я бы сказал, хронический алкоголик, у которого американцы выбивали бутылку. Но не давать пить тоже уже нельзя было. Вечное состояние полупьяного–полутрезвого человека, абсолютно разложившегося, абсолютно не имеющего никакого уже отношения к разведке, но знающего все секреты. И именно он сообщил Фишеру о том, что за успехи в работе ему присвоено звание полковника. И когда Фишера арестовали в отеле "Латам" и обратились к нему со словом "полковник", — это была первая фраза, которая была сказана, — Фишер понял сразу, кто его сдал, потому что во всем Нью —Йорке о том, что он стал полковником, знали два человека: он сам и его радист. Вот, что я хочу сказать, что предательство все равно смертельно. Это для меня тема, которая в моих книгах не особенно как —то проходит, потому что я их просто презираю, этих людей. Но, вы знаете, мне не хочется о нем говорить, но я скажу для вещей справедливости, тем более, есть какие–то и сегодняшние параллели, да? Мы понимаем, о чем мы говорим. Вот, Хейханен закончил так: во–первых, он был опозорен на суде, потому что вместе с адвокатом Донованом, — это ход, который предложил сам Фишер, — была нанята частная фирма, которая разрыла личную жизнь этого подонка. И то, что частные агенты, которым Фишер заплатил 1600 долларов США американских, накопали, оказалось страшным компроматом в глазах праведных американцев: пьяница, бездельник, вор, который свидетельствовал против честного советского полковника. Неизвестно, что было здесь больше, тут трудно сказать, что перевесило, но неприязнь к Хейханену была огромная. И американцы тоже его, в общем–то, презирали, они сначала даже не верили ему. Это было очень интересно. Даже привезя в Штаты, относились к нему с иронией, потому что психологи, которые обследовали советского перебежчика, сказали, что это разложившаяся личность, да еще склонная к суициду. Но, тем не менее, было что–то, что заставляло верить, что правду говорит он о том, что действует какой–то очень крупный агент. Хейханен не знал ни его имени, ни настоящей фамилии, знал только кличку: полковник Марк. И вот здесь, все–таки, кто–то нашелся, кто поверил. И этот кто–то установил наружку около дома, где жил Фишер.
Есть две версии. Первая: никогда в жизни Фишер не пускал к себе своего связника, а лишь однажды около дома передавал ему какой—то материал. Есть вторая версия, версия Хейханена, которой я, как ни странно, склонен верить. Именно из–за тупости Хейханена я в нее верю. Что, все–таки, однажды Фишер привел его к себе домой. И вот, днями, неделями, американцы колесили по этому району, пытаясь найти квартиру, где живет вот этот вот художник, Гольдфус. И нашли. Вычислили, посмотрели, — да, это квартира советского разведчика. Установили пост. Причем, очень искусный, толковый. Напротив сняли у гостиницы какую–то комнату. Внизу всегда дежурила наружка, то есть, не жалели денег. Знаете, говорят, вот, дураки такие эти все американцы, ну, чего там, они там… Нет, это очень способные люди, знающие свое дело, действующие методами, наверное, как я думаю, отличающимися от методов наших. Но у каждого свои методы. И, в конце концов, они очень, я бы сказал так, планомерно, используя подонка, экс–разведчика Хейханена, шли по следу. И очень, я бы сказал, целенаправленно вышли по этому следу на квартиру. Однажды им показалось, что человек, похожий на Марка, мелькнул рядом, но они его упустили. Второй раз они его уже не упустили. Вот, все, конечно, в жизни, а в разведке, наверное, тем более, зависит от этих вот маленьких деталей. От маленьких стечений или не стечений обстоятельств. А здесь вот было стечение неприятнейших обстоятельств. Во–первых, никак не мог принять Фишер радиограмму из центра, где ему радировали о том, что, беги через Мексику, как условлено. Во–вторых, никак он не мог понять, что Хейханен уже здесь, рядом с ним. И в–третьих, когда он однажды зашел в квартиру и кое–что вынес, на этом надо было остановиться. А он хотел вынести еще ряд своих документов и те самые письма, которые потом против него были свидетельствами на суде, в контейнере запрятанные. И вот, все было хорошо, он зашел тихо в квартиру. В квартире был майский свет, время было 11 часов. И вдруг контейнер с письмами — вот именно роковое свидетельство — именно с письмами от жены, именно с письмами от дочери, он куда–то — пух — и укатился. Он стал шарить по полу, он стал ползать на коленках, он искал это — не мог найти. Подошел к шторе, посмотрел — нет. Никого нету. Поздно, ночь, никого. И тут он рискнул и зажег свет. Потом в Москве он описывал это так: свет горел 2 с половиной минуты, он нашел контейнер, а американцы нашли его. За эти 2 с половиной минуты наружка его засекла. Фишер вышел из дома. Он шел один по пустынной улице, и вдруг ему показалось, что кто–то за ним идет. Наверное, он почуял опасность. Но обычно используется такой прием: наружка, которая должна быть мобильной, легкой, она же не ходит с тяжелыми вещами. А тут шел человек за ним с чемоданом, с тяжелым чемоданом, тащил, кряхтел, пыхтел, еле втиснулся в метро, потом плюнул, конечно, на этого Фишера, сел в другой вагон, и Фишер успокоился: ну, не может этого быть. Да и в другой вагон сел, такой толстяк, с таким чемоданом. А как раз это был человек из наружки. То есть, понимаете, попались на тот прием, который используют как раз не охотники, а дичь. Это дичь берет в руки, первое — маленьких детей. Дичь, убегающая от охотника, берет в руки тяжелые чемоданы или ставит на голову какие–то сумки, или за плечи, что—то тащит... Или какие–то коляски толкает впереди себя. Ну, с колясками идут. А тут — наоборот, хорошо сработала наружка, понимаете? Все вышло наоборот. И толково. И он был пойман. Он был сфотографирован. Фото показали человеку по фамилии Хейханен. Он сказал: это он, вы нашли его. Тут же его, конечно же, сопровождали до гостиницы "Латам", а дальше история, уже много раз описанная в нашей советской периодике. Да и в американской тоже. Джеймс Донован все это описывал в своей книге "Незнакомцы на мосту", известно, арест и все прочее.


Н. ДОЛГОПОЛОВ: А дальше — "Мертвый сезон". Но тоже, вот, интересно…
М. ПЕШКОВА: Донатас Банионис.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Да, знаете, тоже вот интересно, "Мертвый сезон" — это очень интересная история. Трудно в это поверить, но это так. Вот, мой покойный папа, Михаил Долгополов, дружил с, естественно тоже ныне покойным, сценаристом по фамилии Вайншток Володя. Они не были близкими друзьями, но я помню Вайнштока, к нам на Тверскую, тогда улицу Горького, частенько забегавшего. Это был человек—взрыв. Человек такой, знаете, очень остроумный, наверное, по каким—то понятным причинам, в ту пору он подписывался как Владимиров. Я вот знаю, что он был режиссером моего любимого фильма "Дети капитана Гранта", мне страшно этот фильм нравился, и я даже гордился, что я вот с режиссером и сценаристом Владимиром Вайнштоком, дядей Володей, вот я знаком. И однажды Вайншток пригласил папу на премьеру фильма "Мертвый сезон". Премьера была вот как—то не в доме кино, куда мы обычно ходили, а почему—то как—то она была, вот я не знаю, почему, в кинотеатре "Россия", тогда относительно новом, роскошном, для нас непривычном. Папа меня взял. И Вайншток сказал: Миша, я тебя познакомлю с героем, его фамилия Абель. И ты напишешь для "Известий", может, даже какое—то интервью. Сказал это, конечно, Вайншток, явно не подумав, потому что мы, действительно, увидели этот фильм, где выступал вначале Абель. Очень интересно говорил, очень толково. Потом, когда мы посмотрели две серии фильма, Абель быстро прошел куда—то, папа бросился за Вайнштоком, а где же Абель? А интервью? Ну, интервью—то и не было и быть не могло, конечно, в ту пору. Отец мой немножко обиделся, хотя рецензию на фильм, я помню, написал очень хорошую, потому что фильм—то был блестящий. Да, и Вайншток был, ну, не другом, но близким человеком для семьи. Интереснейшая история, нашел меня его сын, Олег. И вот, мы встретились, и он мне рассказал историю. Историю небольшую об Абеле, которую тоже я в свою книгу вставил, потому что она очень характерная. Вайншток тяжело заболел, и Абель—Фишер решил его навестить. "Склиф", отделение реанимации, после операции прошло всего несколько дней, никого не пускают, даже жену, которая работает в "Склифе" же в другом отделении доктором. И вдруг к Вайнштоку проходит Абель, абсолютно спокойно, в своем зимнем пальто, очень скромном, воротничке, тащит авоську простую. В авоське две такие бутылки. Но это не плодово—овощное—ягодное вино, в которое налита, знаете что, налита просто настойка, которую Абель сам делал на даче, безалкогольная, конечно, клюквенная, для друга Вайнштока. Он прошел. Посидел, поговорил с ним. В реанимации, неизвестный человек. Как? Почему? Что? Объявлен карантин в это время в Москве. И потом началось разбирательство: кто пустил этого немолодого человека туда? Кто смел? Сестра, которая пустила, которая никого в жизни никогда не пускала: а я думала, что это пришел из соседней палаты доктор—консультант. Врач, который дежурил: а я думал, что это тот врач, который делал Вайнштоку операцию. Третий человек сказал, что почему я его мог не пускать, когда он сюда ходит каждый день, он у нас же здесь в реанимации работает. Это был вот такой человек, который незаметно и тихо проходил сквозь стены. Понимаете? Это был, конечно, дар разведчика. Это был дар, который нельзя приобрести, которому нельзя научиться. Ну, бывает, вот не знаю, скажем, дар какой—то у писателя, да? Ведь я не думаю, что Льва Николаевича кто—то учил выводить буквы в таком порядке, в котором он выводил. Не уверен, что, может быть, Пикассо научился рисовать, потому что у него были хорошие учителя. Это был божий дар. И, может быть, зря Фишер, все—таки, хотел дважды бросить свою работу, а однажды его уволили с этой работы. Он был именно на своем месте. Талантливый скромный человек—невидимка, который невзначай проходил сквозь стены. И приносил нам сквозь эти стены атомные секреты. Вопрос: имел ли Фишер какие—то контакты или знакомство с семьей Коненковых, которые перевезли атомные чертежи?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Вот, знаете, я этого не знаю. Я просто вот этого не знаю. Я имел контакты с Коненковым, у него был прекрасный музей, если вы помните, да?
М. ПЕШКОВА: Да, да.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: И мы с папой ходили в музей. Очень смешно было, потому что как раз в те годы было бешеное соперничество между двумя возвратившимися издалека скульпторами. Фамилия одного — Коненков, а второго — Эрьзя. И они спорили, кто лучше, кто краше, между собой. Вот я помню бородатого Коненкова и очень такого экзотичного человека из Мордовии Эрьзя. Ну, насчет вот этих контактов я не знаю. Наверное, объять все невозможно было. Может быть, была другая линия, а может, ее вообще и не было. Тут трудно об этом говорить. Я боюсь, что здесь я не могу вам сказать ничего.
М. ПЕШКОВА: Здесь, я думала, может, мы зацепим с вами тему Эйнштейна. Речь идет о романе, о романе госпожи Коненковой с Эйнштейном.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Ну, так…
М. ПЕШКОВА: … якобы Эйнштейн служил России.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Да, знаете, я вот думаю…
М. ПЕШКОВА: Художественный вымысел?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Нет, знаете, вот я много слышал о людях, которые служили России. И вот с этим вопросом — это имеет прямое отношение к Абелю — я обратился к Герою России Владимиру Борисовичу Барковскому. Я приблизительно то же самое спрашивал, правда ли, что Эйнштейн, а также Оппенгеймер, а также, конечно, Нильс Бор, да? Эти же люди были такими миролюбивыми, они были такими борцами за мир. Они так любили нашу страну, они очень и очень нам помогали. Но, правда, чем, я не знаю. Были ли они нашими разведчиками? И я, в доказательство того, что были, даже притащил с собой книжку Павла Судоплатова, где прямо было написано, что были. И Оппенгеймер, и особенно Нильс Бор.
И мой собеседник, вот действительно, настоящая легенда русской советской разведки, Барковский — он был такой маленький, сухенький человек, он смеялся искренне и долго. И потом прочитал мне целую лекцию. Он вообще, со мной так как бы занимался, видя мою такую некоторую, ну скажем так, любительство мое, он учил меня определенному уму—разуму.
Вот он мне говорил: Николай Михайлович, вот посмотрите, конечно, разведка любая изучает свой вербовочный контингент. И такие люди, как Оппенгеймер, как Нильс Бор, страшно ее интересуют. Но к этим людям, как и к Эйнштейну, подобраться практически невозможно разведчику. Не потому, что разведчик плох, а по другим причинам. Первая из этих причин: этих людей страшно охраняют свои разведки, свои спецслужбы. Они под жутким колпаком. Второе, что еще более важно, чем свой колпак: из—под колпака иногда можно выбраться, но главное — это второе, да? Они не хотят выбираться из—под колпака, потому что то, что они получают, находясь под этим колпаком, не может идти ни в какое сравнение с тем, что они могли бы получить под страхом, под риском от какой—то чужой разведки чужой страны. И третье: зачем им это нужно? И поэтому каштаны из огня таскают другие: люди гораздо более низкого класса. Я говорю это, и вот краснею, по—моему, даже. Потому что Теда, Теодора, Тео Холла, я не хочу назвать человеком более низкого класса. Или, скажем, Фукса, немца, антифашиста, который тоже для нас очень много сделал, и тоже достал много атомных секретов, тоже не хочу назвать человеком второго, или ученым второго класса.
Ну, конечно, это был не Оппенгеймер, все—таки, понимаете? Нет. Те люди нечего не давали. Я вам расскажу, например, про очень смешную, на мой взгляд, историю, которая касается, в определенной степени, и Абеля—Фишера. И темы уж атомной разведки на сто процентов. Ну, закончилась война, был создан специальный комитет, который возглавил Берия. Кстати, этот подонок и мерзавец патентованный сделал для создания атомной бомбы очень много. И если в аду ему иногда дают маленький стульчик, чтобы он отсиделся и отдышался минут пять, то это за то, что, благодаря и его усилиям, была создана атомная бомба. Так вот, Берия очень надеялся на своего любимца и талантливого человека Судоплатова. А Судоплатов, когда закончилась война, его деятельность в 4—м управлении, где были и диверсии, и все прочее, она как—то естественным образом закончилась, что—то надо было делать, куда—то его пристраивать. А он был, бесспорно, талантом. Он возглавил управление, которое занималось, вот, этими атомными делами. И в мозги Судоплатова, или в мозги уже, я не знаю там, кого, была такая то ли подкинута, то ли сама собой закралась хорошая идея: а что, если нам попытать самого Нильса Бора?
Выяснилось, что, вот, действительно, Нильс Бор прибыл в Данию, и тогда целая группа людей, работавших на Судоплатова, составила список вопросов. Этот список вопросов был доложен Берии. Берия доложил о нем Сталину. И с этим списком группа во главе с человеком по фамилии Терлецкий, — никто не знал, кто он, то ли он был ученым, то ли он был полковником, а может, он был и ученым, и полковником, что иногда бывает, — отправилась в Копенгаген. И, действительно, состоялась встреча с Нильсом Бором. И все вопросы по атомной бомбе, которые были составлены в Москве, Нильсу Бору были заданы. И на все, абсолютно на все те вопросы Нильс Бор дал ответы. Их переводили переводчики, их изучали, но главную оценку дал великий ученый, — я говорю это без шуток и без кавычек, — Курчатов. Он сказал, что это не имеет никакой ценности. Бор проявил себя тонким дипломатом, он давал ответы на вопросы в рамках определенного учебника для вузов, и не более того. А Сталину это было преподнесено как большой успех советской разведки: вот, поехали, выяснили, вышли на Бора… Но лишь потом выяснилось, что борец за мир и друг Советского Союза Нильс Бор совершил поступок, за который я бы, например, его и не очень осуждал. Он сообщил, во—первых, своей разведке о том, что на него вышли с такими вопросами, во—вторых, передал им список вопросов, а, в—третьих, передал свои ответы на вопросы. То есть, Бор, я бы сказал, остался чистым, засветив тех самых людей, разведчиков из страны советов, которые к нему приехали. Это я к тому, что Эйнштейну, Бору и Оппенгеймеру не нужно было ни коим образом в это дело ввязываться.
М. ПЕШКОВА: А что стало с тем самым Абелем?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Тоже интересная история. Он умер, вы знаете? Он был уволен из разведки в конце 48—го года в возрасте 48—ми лет, или 47—ми. Он дружил, бывая чуть ли не каждую неделю, единственный, у Эвелины и Эли. Он встречался со своим другом в 55—м году. Он жил со своей женой Асей и с ее сумасшедшей мамой. И однажды он вечером в стужу в декабре 55—го года пошел через улицу, тут же, на Мархлевского, к своему другу, который был только что выпущен из сталинского лагеря. Он добрался к нему по лестнице, потому что не было лифта, позвонил в дверь и умер от разрыва сердца. И Эвелина Вильямовна мне рассказывала, что она страшно боялась рассказать папе об этом, потому что, ну, отец… это был друг единственный. И отец говорил, что, если бы я знал, конечно, что он умер, я бы никогда его именем не назвался. Никогда бы.
М. ПЕШКОВА: Эвелина мне рассказывала о том, что хотели на могиле написать "Абель". И они были против, семья, против этого. Почему?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Вы знаете, Эвелина говорила, что единственный раз в жизни мы с мамой устроили маленькую революцию. Мы были против того, чтобы папу похоронили под именем, которое он терпеть не мог и ненавидел. Ему, действительно, было очень тяжело, потому что он не мог рассказать ничего из своей биографии. Вы знаете, я даже вот читал некрологи, да? Ну, они такие для меня, ну, какие—то, знаете, лживые. Сын петербургского рабочего… ну, какой рабочий, какой петербуржский рабочий? Где петербургский рабочий? Родившийся в Питере на брегах Невы, подпольщик, революционер, помогал с детства, там… ну, это все вранье. Нет.
Когда он приехал, все были уверены, что сейчас ему разрешат называться своим именем. И он сам был в этом уверен, потому что он уже устал от имени "Абель", он гордился своим именем "Фишер". Он очень любил отца, несмотря на все сложности семейные. Он очень любил Эвелину, и он считал, что он заслужил того, чтобы, наконец, ему вернули его имя. Но имя решили не возвращать. Говорили, что это из—за личной безопасности, говорили, что это из—за того, чтобы не могли проверить, что он бывал во многих странах, потому что там бы остались хвосты, и людей, которые с ним работали, могли бы вычислить. Что имело, наверное, под собой в то время какую—то основу; наверное, имело. Но главное не в этом, а главное в другом. Решено было оставить его Абелем. В фильме он выступал как Абель. Его стали узнавать в электричке, как рассказывал он Вайнштоку, и это его раздражало. А больше всего его раздражали такие шутки, как, например, первая, которую он услышал, когда его встретили в Москве товарищи по работе.
В феврале 62—го года, когда его вернули в Москву после обмена, его встретили шуткой: ну, что, Рудольф Иванович, вернулись? Эта шутка ему страшно не понравилась. Нехорошо было, он был не Рудольф Иванович. Он же был, все—таки, Вильям Генрихович. Не нравилось ему и то, что соседи по даче, ошарашенные всем происходящим, называли его тоже Рудольфом Ивановичем. Это были те люди, которые знали его иногда еще и до войны. Это его очень раздражало. Я вам скажу даже больше того: вот, мы долго работали с Эвелиной Вильямовной, и, возможно, среди вот этой всей моей эпопеи, связанной с разведкой, не было у меня собеседников и собеседниц труднее, чем она. Она была очень сложным человеком. Иногда она меня встречала: ой, Николай Михайлович, как хорошо, что вы пришли, чайку, кофейку, садитесь, вот я тут приготовила… И мы сидели. А иногда было очень плохо, и я всегда мог выбраться к ней только по субботам — по воскресеньям на ее проспект Мира, — кстати, сейчас квартиры этой нет уже, она исчезла, растворилась. Живут в ней люди совершенно другие уже. И никто не знает, что там жил Абель. И какие—то у меня были такие идеи: а что, если вот там бы создать мемориал, музей? Эвелина говорила, что папа этого не любил.
М. ПЕШКОВА: А мемориальную доску?
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Вот это вопрос, который требует тоже какого—то решения, как будем писать: Абель—Фишер? Или Фишер? Вот, может, если вот хоть книга выйдет, будут знать, что есть такой разведчик Фишер. Я к чему это все рассказываю? Стоило мне назвать Вильяма Генриховича не Фишером, а Абелем, как разговор мог прекратиться. И все мои поездки из далеких мест к ней могли быть сведены на ноль. Маленькая революция, которая была поднята в 71—м году, когда зимой он умер, закончилась тем, что в ней была не одержана ни победа, ни поражение, а схватка закончилась ничьей. И на могиле на Донском две фамилии: Фишер—Абель, Абель—Фишер. То есть, интересно, что есть еще одна могила Абеля, и о ней мне рассказали люди, которым я безоговорочно верю, это Лидия Борисовна Боярская, приемная дочь. Она меня спрашивала: а, вот вы знаете, где могила настоящего Абеля? Я говорю: ну, откуда же я знаю? На Немецком кладбище он похоронен в Москве. И вот там, — она возила людей из разведки, — показала могилу, где написано "Рудольф Иванович Абель". Настоящий Абель. То есть, вот такое переплетение судеб интересное.
М. ПЕШКОВА: "Всем людям из внешней разведки, своё свершившим", — таково посвящение автора в книге об Абеле—Фишере. Невозможно забыть кадры обмена на мосту Глинике через реку Шпрее в Западном Берлине. Для многих из нас так и останется разведчик Абель—Фишер таким, каким его сыграл Донатас Банионис. Но вернусь к началу: как же получилось так, что Николай Долгополов занялся изучением жизни Абеля—Фишера.
Н. ДОЛГОПОЛОВ: Я приехал в 92—м — 93—м году из другой страны, из Парижа. Работал собкором крупнейшей молодежной газеты. Приехал в страну, которую я не знал. За 6 лет — за 5 лет она так изменилась, что я сам не понимал, куда я попал. И я, знаете, работал в "Комсомолке", и тогдашний редактор "Комсомольской правды" Владик Фронин сказал мне: слушай, ты, вообще, конечно, здорово отстал от наших реалий. Нагоняй. Возьми, запиши телефон, это только что образовалось пресс—бюро службы внешней разведки. Там какой—то, говорит, хороший паренек работает, зовут его, кажется, Юра Кобаладзе. Позвони ему, может, что—то у вас выйдет. Тем более, они просили написать статью об Абеле.
М. ПЕШКОВА: Вы слушали передачу из серии "Кто вы, Абель—Фишер?", подготовленную в рамках совместного проекта радио "Эхо Москвы" и "Российской газеты". Первые две звучали, соответственно, 5—го и 12—го декабря. Рассказывал о разведчике—нелегале Абеле—Фишере автор ЖЗЛовской книги, писатель и журналист, зам главного редактора "Российской Газеты", Николай Долгополов. Перу Николая Долгополова принадлежат книги: "Гении внешней разведки", вышедшие в Москве в "Молодой Гвардии" в серии "Дело №…". На столе у меня — предпоследнее издание "Гении внешней разведки", последние зачитали. Там большие рассекреченные материалы о Гудзе, кто прожил свыше ста лет. Он работал водителем троллейбуса. Так, к слову, между прочим. Про Конона Молодыя, про супругов Мукасеев и многих других. Увлекательное чтение.
Публикации за Декабрь 2010